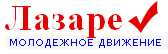ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Чем ближе подъезжал Торели к Тбилиси, тем сильнее он волновался.
Торели заранее знал, что он увидит на месте Тбилиси, той прекрасной
грузинской столицы, которую ему пришлось покинуть семь лет назад.
Канцелярия Несеви всегда передвигалась по следам Джелал-эд-Дина и его
войска. Поэтому Торели представлял себе, что такое разрушения,
произведенные хорезмийцами.
Он вспоминал все любимые уголки Тбилиси, воображение рисовало ему их
лежащими в руинах, в золе и пепле, и сердце поэта сжималось от тоски и
боли. Он знал из расспросов очевидцев, что нет больше плавающего дворца
Лаши в Ортачале, нет новых палат царицы Русудан, нет нового моста через
Куру, который был украшением города.
Все-таки теплилась надежда, что, может быть, хоть что-нибудь уцелело,
пусть не столь величественное и знаменитое, как царские дворцы и палаты,
но близкое и дорогое его сердцу. Но и эта надежда становилась все слабее,
по мере того как сокращалось расстояние до любимого города.
В пригороде Ортачала Торели остановился у того места, где раньше был
дворец Лаши. Этот дворец был сделан из камыша и плетеных циновок, он был
построен на плотах и поэтому всегда покачивался, как лодка. Из дальних
восточных стран выписал Лаша искусных мастеров, и они под наблюдением
самого царя пять лет сооружали этот дворец. Здесь, в своем плавучем
дворце, Лаша любил отдыхать, здесь же устраивались пиры. Торели тоже
немало дней и ночей провел в сказочном дворце Лаши, слава о
благоустройстве и роскоши которого гуляла далеко за пределами Грузии.
Когда Джелал-эд-Дин взял Тбилиси, то тбилисские персы первым делом
привели победителей к этому дворцу. Чем можно было удивить сына
хорезмшаха, владевшего всем Востоком? Джелал-эд-Дин, повидавший множество
дворцов, храмов, мавзолеев в далеких и близких городах, все-таки был
поражен, когда увидел дворец Лаши. Долго глядел он на эту дорогую,
покачивающуюся на волнах игрушку, обошел все залы, опочивальни, подивился
изобретательности строителей и утонченности вкуса заказчика, наконец
обратился к своим визирям и сказал:
— Это не для меня. В таком дворце жить только изнеженным царям.
Раскиньте мне мой походный шатер, и я буду спать в нем, как подобает воину
и предводителю войск.
После Болнисской битвы разъяренный Джелал-эд-Дин приказал сжечь
дворец Лаши. И все, что так кропотливо возводилось в течение пяти лет,
сгорело чуть ли не за одну минуту.
Теперь на Куре по-прежнему покачивались одни только почерневшие
плоты, на которых стояло некогда, может быть, самое удивительное
сооружение на всем свете.
При въезде в Тбилиси Торели слез с коня и теперь шел пешком, ведя
коня на поводу. И справа, и слева, и всюду стояли скелеты домов с
закоптелыми стенами, с пустыми провалами окон. Караван-сараи, мастерские
ремесленников, лавки торговцев были начисто стерты с лица земли. От берега
Куры и до подножия гор не было видно ни одного дома, которого так или
иначе не коснулись бы пожар и разрушение. Кое-где виднелись наспех
отремонтированные дома. Видимо, хорезмийцы это сделали для себя. Но теперь
и эти дома пустовали.
Увидев Метехскую скалу, Торели остолбенел. У величественного собора
был снесен купол, стены его обгорели. Почти ничего не осталось от дворцов
Георгия III, Тамар, Лаши и Русудан. Стоял только дворец Давида Строителя.
Но и то без крыши и весь выгоревший внутри. Огонь не справился лишь со
стенами, сложенными из огромных камней. Но то, что было разрушено, наспех
починили хорезмийцы, должно быть, именно здесь располагались их войска.
Опоры моста через Куру тоже уцелели, но на них были настланы теперь
какие-то жалкие деревянные мостки. Весь город был похож на кладбище.
Напрасно надеялся Торели, что, может быть, остался целым дворец Русудан
или хотя бы его развалины.
Тоска по Цаго вспыхнула с новой силой. И было у Торели такое чувство,
что он не возвратился в родной и любимый город, а спустился в холодное,
мрачное, пустынное подземелье. Город напоминал склад гробниц,
нагроможденных друг на дружку беспорядочными рядами. А сколько счастливых
людей, сколько веселья и шума, сколько торговли и ремесла, сколько вина и
яств, сколько шуток и смеха было здесь шесть лет назад.
По улице босая девочка вела слепца — седого, оборванного, заросшего
бородой человека. Слепец одной рукой ухватился за плечо девочки, а в
другой держал палку, которой шарил и постукивал впереди себя. Торели
подумал, что девочка тоже испугается его вида, как испугались недавно
мальчишки-рыболовы, и встал в укрытии в проломе стены.
Девочка подвела слепого к тому месту, где стояли раньше палаты
Русудан, и усадила его на камень. Она что-то сказала ему, а сама
повернулась и побежала вниз по склону.
Торели вышел из своего укрытия и подошел к одиноко сидящему на камне
слепцу.
— Не заслоняй солнца, — сказал слепец довольно грубо и нетерпеливо
махнул рукой.
Турман похолодел — это был голос Ваче. Турман отошел в сторонку,
чтобы не загораживать солнце, и стал приглядываться к слепцу. Нос
горбинкой, толстая, чуть отвисшая нижняя губа. Все точь-в-точь как у Ваче.
Но особенно руки... Большие, как бы крестьянские, но в то же время с
длинными, тонкими пальцами. Руки художника Ваче Турман Торели мог бы
узнать из тысячи других рук.
Слепец чувствовал, что кто-то стоит рядом с ним. Он спросил, не
поворачивая головы:
— Кто ты?
— Это я, Торели. — Выдержки больше не хватило у поэта, и он упал
около Ваче на колени и обнял несчастного слепца.
— Торели, Турман, неужели ты еще жив, бедняга? Видишь, на кого я
похож! Зачем мне жить, зачем ходить по земле, если я не различаю ни тьмы,
ни света, если я не вижу и людей. Несчастный я человек.
— Твое счастье в том, что ты ничего не видишь, Ваче! Ты не видишь
нашего разорения, нашего позора, не видишь ужасных развалин на месте
прекрасного Тбилиси.
Ваче смутился и замолчал. То же самое, почти слово в слово, сказал
ему и Гочи Мухасдзе несколько лет назад. Видно, и правда страшно теперь
смотреть на Грузию, если вот уже второй человек позавидовал участи слепца.
В ответ на мысли Ваче Турман снова горестно заговорил:
— Хорошо, что ты не видишь опустошения, царящего вокруг. Хоть бы и
мои глаза не глядели на все, что я вынужден видеть.
— Ничего, Грузия вновь встанет из пепла, отстроится, расцветет. Раны
ее заживут.
— Кто знает, придется ли увидеть даже потомкам нашу страну в таком
величии и блеске, как посчастливилось нам с тобой, Ваче.
До Грузии доходили слухи один невероятнее другого. Кто говорил, что
Джелал-эд-Дин убит монголами, кто говорил, что он покончил с собой, кто
утверждал, что монголы схватили султана и теперь он у них в плену, кто
доказывал, что султан бежал в Багдад и теперь вместе с халифом они
собираются поднять весь мусульманский мир на войну с монголами. Некоторые
говорили, что Джелал-эд-Дин сидит не то в Хлате, не то в Арзруме, что он
собирает новое войско для войны с монголами, а также для нового похода на
Грузию.
Слухов было много, правды не знал никто. Правдой было пока что только
то, что все хоремзийцы вдруг поспешно покинули Грузию, так что на всей
грузинской земле вдруг не осталось ни одного хорезмийца. Грузинам только
этого и было нужно. Не все ли равно, где, в каком городе или краю умрет
ненавистный Джелал-эд-Дин? Страна освободилась от нашествия, страна
вздохнет теперь полной грудью, снова наладится мирная жизнь.
Так думали все грузины. Плохо то, что так думали и те, кому
полагалось бы думать о будущем страны, о ее спасении, о ее защите от
нового, еще более страшного врага. Только самые дальнозоркие и умудренные
из них понимали, что, как ни странно, уход с исторической сцены
Джелал-эд-Дина не на руку Грузии. Следом за Джелал-эд-Дином шли монголы. И
какие бы несчастья ни нес Грузии султан, все же для нее было бы лучше,
чтобы он как можно дольше сопротивлялся монголам, обескровливая их и сам
истекая кровью.
Так думал и Торели, хотя он видел своими глазами ночное бегство
Джелал-эд-Дина и сомневался, что султану удалось спастись. Но, кто его
знает, та судьба, которая вырвала его из рук врагов на берегу бушующего
Инда, может быть, помогла ему и на этот раз.
В Грузии между тем быстро налаживалась мирная жизнь. Повсюду
распахивали поля, сажали виноградные лозы, строили мосты, расчищали
площадки, чтобы закладывать новые дома.
Каменщиков и плотников не хватало — они были нарасхват. Впрочем,
каждый становился плохим ли, хорошим ли каменщиком и плотником, чтобы
скорее возвести стены, устроить кровлю над головой, развести очаг.
По Грузии вновь потянулись караваны со всех концов света. Почти сразу
же появились разнообразные товары, но стоило пока все очень дорого.
Караванщикам приходилось путешествовать большими партиями и нанимать
многочисленную вооруженную охрану. Да и не решались они заезжать слишком
далеко.
Один караванщик, только что прибывший из Арзрума, нашел Торели и,
уединившись с ним, тайно передал ему письмо от Мохаммеда Несеви.
«Когда ты получишь это письмо, — писал бывший начальник канцелярии и
летописец Джелал-эд-Дина, — твоего покровителя и друга Мохаммеда скорее
всего не будет в живых. Как мне горько, что великий аллах не услышал моей
молитвы и не пресек мой жизненный путь раньше, как просил я его об этом. И
вот я сделался очевидцем ужасных событий, о которых тебе пишу. Кроме того,
за мои тяжкие грехи аллах не дал мне возможности продолжить летопись
великого и доблестного Джелал-эд-Дина.
Помнишь, в час нашего расставания, когда моя жизнь висела на волоске,
я вручил тебе один список моей книги, дабы мои труды дошли до потомства.
Но колесо судьбы повернулось иначе. Сам я пока что жив, тогда как
возвышеннейшего и благороднейшего среди всех людей, избранного богом
человека, по сравнению с которым я и все мы, оставшиеся в живых, лишь
дорожный прах, этого человека не пощадила злая судьба. Аллах, без ведома
которого не падает и волос с головы человека, лишил жизни того, кто был
смыслом моего жалкого и недостойного существования, всех моих бессонных
трудов. Лишив жизни Джелал-эд-Дина, аллах тем самым поставил предел и моей
летописи. Хотя более справедливо было бы лишить жизни меня, устроив так,
чтобы султан продолжал жить на земле, а кто-нибудь другой продолжал бы за
меня описание его трудов и подвигов.
Но мы, бедные, смертные люди, не можем проникнуть в сокровенный смысл
воли аллаха. Я не знаю, зачем он оставил меня в живых, но я должен,
покорный его воле, влачить свое существование на земле до последнего
вздоха и не должен роптать, ибо жизнь, как и смерть, есть дар божий.
Но, может быть, я затем и остался жить, чтобы еще раз взять в руки
перо и дописать последнюю страницу моей летописи. И хотя на бумагу
попадает больше моих слез, нежели чернил, все же я ставлю точку и говорю
опять: слава аллаху. Теперь я посылаю тебе окончание моей книги, дабы ты
присовокупил его к списку, хранящемуся у тебя».
Торели с жадностью прочитал о последних днях и часах жизни
Джелал-эд-Дина.
...Когда султан увидел, что монголы мчатся к нему и окружают, он
приказал мамелюкам атаковать монгольский отряд. Яростная атака мамелюков
оказалась успешной. Монголы смешались и отступили. Султан воспользовался
этим замешательством, повернул коня и пустил его в сторону Амида. Монголы,
по-видимому, пустились в погоню по его следам, но с большим опозданием. Во
всяком случае, когда султан подъехал к Амиду, их еще не было видно. Самого
властителя Амида не было в городе. Жители же, боясь гнева татар, не
открыли Джелал-эд-Дину городских ворот, а, напротив, начали забрасывать
его камнями, желая отогнать его подальше от крепостной стены. Медлить было
нельзя. Облачко погони зажелтело далеко на горизонте. Султан плюнул в
сторону крепости и повернул коня к Басианским горам. Скакать пришлось
вдоль извилистых оврагов и узких проходов, так что нельзя было решить,
сохраняется ли расстояние между ним и погоней.
Когда стемнело, султан решил дать отдых коню и освежить свои силы. Он
выбрал укромное место на гумне, на краю деревни, и ему удалось вздремнуть,
положив голову на седло. Те несколько человек, которые не оставили его в
беде и скакали вместе с ним, расположились вокруг, охраняя драгоценные
минуты сна султана.
Монголы, видимо, тоже отдыхали ночью, потому что топот их коней
послышался только на рассвете. Снова нужно было скакать. Султан пошел на
последнюю хитрость. Он приказал своим спутникам скакать всем в разные
стороны. Он надеялся, что монгольская погоня растеряется, не зная, кого же
догонять.
Сначала султан подумал, что хитрость не удалась, ибо большая часть
погони устремилась все-таки за ним. Но, по-видимому, монголы все-таки
растерялись. Они метались на своих конях, кружили их на одном месте и не
знали, какое направление выбрать. В конце концов только два всадника пошли
по следу Джелал-эд-Дина. Сначала они были видны, точно две мухи, ползущие
по ровному месту, потом они стали казаться величиной с собак. Это не
потому, что конь Джелал-эд-Дина был хуже, но потому, что Джелал-эд-Дин
решил расправиться с этими двоими и тем самым освободиться от погони. Он
был воин и хотел либо умереть в бою, как надлежит настоящему воину, либо
убить врагов.
Расстояние между ним и погоней все сокращалось. Пока еще не
оборачиваясь, султан положил стрелу на тетиву лука. Спиной он ощущал
расстояние между собой и погоней. Когда почувствовал, что нужное мгновение
настало, неожиданно обернулся и спустил стрелу. Монгол, обмякнув, свалился
с коня, а конь, поняв, что для его хозяина все кончилось, остановился и
свернул в сторону с тропы погони.
Второй монгол тоже схватился за лук. Дело теперь могли решить доли
секунды: кто быстрее и метче выстрелит. Опередил султан. Встав на
стремена, он яростно отпустил тетиву. Монгол в это время был совсем
близко, стрела пробила его чуть ли не насквозь. Так султан одержал еще
одну, может быть самую трудную, свою победу.
Он спешился и, оставив коня, вскарабкался на холм, оканчивающийся
скалой, чтобы разобраться в местности и сообразить, куда ехать дальше.
Погони не было. На всей земле, которую охватывал с холма взгляд, не
виднелось ни пешего, ни конного. Но султан смотрел вдаль, а между тем тут
же, на склоне холма, в трех шагах, его подстерегала новая опасность.
Когда он повернулся, чтобы спуститься с холма к своему коню, он
увидел, что между ним и конем, загораживая ему дорогу, стоят люди. Внешне
они были похожи на курдов, в руках держали длинные палки, и Джелал-эд-Дин
принял их в первый момент за мирных пастухов. Но, приглядевшись, он
увидел, что эти люди как следует вооружены, и тотчас понял, что это не
мирные пастухи или крестьяне, а настоящие разбойники.
Джелал-эд-Дин надеялся обежать разбойников и прорваться к коню,
бросился было в сторону, но тут же запутался ногами в палке, ловко
брошенной одним из разбойников. Султан упал, сильно разбив губу. Он сидел
на земле, утирая кровь, тогда как разбойники, обнажив кинжалы, громко
заспорили между собой. Наконец тот, в ком можно было признать главаря,
схватил Джелал-эд-Дина за пояс и приподнял. В это мгновение Джелал-эд-Дин
вспомнил надпись на поясе царя Кей-Кавуса: «Всякий, кто незаконно
опояшется мной, — умрет». Страх оледенил султана. Как высокомерно он
смеялся над этой надписью, когда пояс достался ему. Как он рассердился
тогда на визиря, который советовал не брать пояс, а сдать в казну. Неужели
это и правда приговор судьбы и Джелал-эд-Дин падет жертвой этой золотой,
усыпанной драгоценными камнями безделушки? От приговора судьбы не ушел еще
ни один человек.
Султана погнали вниз к подножию холма. Главарь как вцепился в пояс,
так и не отпускал своей руки. Он шел рядом, его дыхание Джелал-эд-Дин
слышал на своей щеке. Не поворачивая головы, Джелал-эд-Дин тихо прошептал
главарю:
— Я султан Джелал-эд-Дин.
Разбойник от неожиданности даже споткнулся и чуть не упал на камни.
Джелал-эд-Дин между тем продолжал так же тихо, чтобы не услышали другие:
— Если вы причините мне вред, вам не уйти от расплаты. Мои войска
перережут все ваше племя, выжгут все ваши деревни. Ни одного не останется
в живых.
Главарь приказал остальным разбойникам идти вперед, а сам вместе с
султаном остановился. Когда разбойники ушли довольно далеко, он
внимательно оглядел своего пленника.
— Я повелитель всех мусульман, — уже тверже и громче говорил
Джелал-эд-Дин. — Как мусульманину, я приказываю тебе провести меня к
государю этой страны мелику Эль-Молк Моджаферу. Он щедро наградит тебя
золотом и другими милостями. Он даст тебе столько золота, сколько весу во
мне самом.
Разбойник явно заколебался. Он не сомневался больше в благородстве
пленника. Больше всех слов его убеждал в этом тяжелый золотой драгоценный
пояс, который увидеть можно только на царе.
— Если же ты боишься появиться на глаза к государю своей страны,
отведи меня туда, где стоят мои войска. Я дам тебе в награду обширные
владения, сделаю тебя эмиром, и ты будешь самым счастливым человеком в
моем беспредельном государстве.
Разбойник прикидывал в уме. На одной стороне был только пояс, да и то
придется делиться с товарищами. А на другой стороне все блага, которые
обещает ему этот необыкновенный человек. Весы клонились на эту сторону. А
убить и снять пояс в крайнем случае никогда не поздно.
— Хорошо, я выполню твою просьбу и отправлю тебя туда, где стоят твои
войска.
После этих слов главарь шайки подозвал остальных разбойников, долго с
ними разговаривал. Вероятно, они делили будущую добычу, все, что было
обещано Джелал-эд-Дином.
Наконец Джелал-эд-Дин с разбойником остались одни. Они пошли в другую
сторону, снова в гору по крутой и запутанной тропинке. В полдень они
пришли в деревню. Курд ввел султана в небольшой дом, крепко запер дверь
изнутри. Султан сел на стул. В его осанке было что-то такое, что и на
простом деревенском стуле он выглядел, как на троне. Курд тотчас упал
перед султаном на колени.
Жена курда глядела на своего мужа, ничего не понимая. Наверно, ей не
раз приходилось принимать в этом доме разбойничью добычу и пленных. Но
чтобы ее муж, главарь беспощадной шайки, падал перед ограбленным им же
человеком на колени, такого не бывало еще никогда.
Видя недоумение жены, курд вывел ее в другую комнату и долго тихо с
ней говорил. Сначала он заставил ее поклясться, что она никому не выдаст
великой тайны. Когда женщина поклялась, курд рассказал ей, что его пленник
на этот раз не просто купец или путешественник, но хорезмшах, высочайший
из государей, богатейший, могущественнейший султан Джелал-эд-Дин. Тут же
курд похвастался, какая награда, какие царские милости ожидают его, если
он спасет жизнь султана и проводит его куда нужно.
Жена слушала мужа с восторгом, но все же как будто и не очень верила
ему. Вид султана после погони, после всех мытарств и правда мог внушить
недоверие.
Курд еще раз строго наказал жене хранить тайну и пошел позаботиться о
лошадях.
Усталый Джелал-эд-Дин прилег на постель курда, прикрыв полами халата
злосчастный пояс, и стал ждать возвращения хозяина. Он твердо знал, что
теперь будет спасен, ибо разбойник не захочет упустить из рук такой
невероятный случай. Поэтому султан был спокоен и даже собирался
вздремнуть.
В комнату время от времени заходила жена курда. Она проходила на
цыпочках, брала то, что нужно, и так же на цыпочках уходила. Комната была
затемнена наружными ставнями. Лица курдянки Джелал-эд-Дин не видел, но по
гибкости, по походке было видно, что это молодая и сильная женщина.
Джелал-эд-Дин смотрел на низенький потолок хижины и думал о
превратностях своей судьбы. В который раз судьба вышибает из-под ног его
трон, оставляя его одиноким и беспомощным на земле. И приходилось
протягивать руки за милостыней и все начинать сначала. Да стоит ли трон,
сама жизнь стольких мучений, унижений, горечи? И да и нет.
В комнате снова промелькнула тень жены разбойника. Мужское начало
Джелал-эд-Дина, которое заставляло его видеть в женщине прежде всего
женщину, притом женщину, не смеющую не подчиниться ему, вдруг вспыхнуло в
нем с редкой, неожиданной силой. Он привстал на кровати и готов был
броситься на женщину, но та выскользнула так же мгновенно и неслышно, как
вскользнула.
Джелал-эд-Дин усмехнулся своему безрассудному желанию и настроению: в
такой час, в такой хижине, в таком положении! Но через желание к курдянке
вспомнилась последняя юная жена, атабекская дочка, из чьих объятий
пришлось убежать, когда напали монголы. Где-то она теперь? На чьей руке
покоится ее красивая головка? И в чьей постели? А может быть, обесчестив,
ее убили, как обесчещивали и убивали всех его жен, когда они попадали в
руки врагов... Постепенно Джелал-эд-Дин задремал.
Он проснулся и открыл глаза, потому что почувствовал опасность. Дверь
в комнату была открыта, и на пороге стоял огромный, весь заросший волосами
человек. Не только лицо, но и огромные красные руки его были волосаты. В
руках у чудовища был острый меч, который, несмотря на всю свою огромность,
казалось, был мал и легок для этого человека. Неужели судьба послала,
чтобы исполнить свой приговор, это страшилище? Неужели Джелал-эд-Дин жил и
боролся только для того, чтобы пасть от руки... В это мгновение
Джелал-эд-Дин увидел, что полы его халата распахнуты и что человек,
стоящий на пороге, не отрываясь смотрит именно на золотой пояс. «Всякий,
кто незаконно перепояшется мной, — умрет», — услышал султан в самом деле
таинственный голос, и страх снова сжал сердце холодным и липким сжатием.
Султан почувствовал вдруг, что пояс очень тяжел, что он давит, душит, надо
его как можно скорее сбросить. Но вид у мохнатого курда был такой, что
султан боялся пошевелиться.
— Кто такой? — громко спросил курд у хозяйки дома. — Почему вы
держите его живым, разве не видите, что это хорезмиец?
— Он наш гость. Мой муж обещал ему безопасность под этой кровлей.
— Вы что, спятили с вашим мужем? Хорезмийцев, которые разорили нас,
вы прячете у себя, да еще обещаете им безопасность. Я его сейчас же убью.
— Его нельзя убивать! Это султан, муж выдал мне тайну, и я клялась...
— Сумасшедшая дура, откуда здесь оказаться султану? Этот проходимец
придумал это для того, чтобы обмануть вас и спасти свою шкуру. Но меня-то
он не обманет. Да пусть хоть он и султан. Тем более его надо прикончить.
Эти хорезмийские собаки убили около Хлата моего сына. Я поклялся
уничтожать их всех, где бы они ни повстречались.
Джелал-эд-Дин не понимал, о чем говорят по-курдски разбойник и
хозяйка дома. Но по интонации он чувствовал, что разбойник хочет его
убить, а женщина защищает. Нарочно прикрыв глаза, султан ждал, чем
кончится все это, вполне осознавая, что ничего изменить он теперь не в
силах. Волосатый незнакомец вдруг одним прыжком подскочил к кровати, и
Джелал-эд-Дин увидел над собой сверкнувшую острую сталь, и тотчас
наступили тишина и темнота, и все перестало быть.
Когда Эль-Молк Моджафер узнал, что в его владениях убили султана
Джелал-эд-Дина, он приказал разыскать коня, седло, саблю султана, а также
и золотой пояс. Отыскали и труп Джелал-эд-Дина. Его похоронили с
подобающими почестями вблизи Амида, отметив для потомков, что великий
хорезмшах скончался 17 августа 1231 года.
Царица Русудан возвратилась в Тбилиси. В разрушенной столице не
нашлось ни одного подобающего здания, и двор расположился в летней
резиденции в Агареби. Здесь много уцелело после хорезмийцев. Правда,
резиденция была разграблена, но сам дворец уцелел, и в нем можно было
жить.
В первый же день после своего переезда царица приняла придворного
поэта Торели. Войдя в тронный зал, поэт не поверил своим глазам. Вероятно,
и он тоже изменился за эти шесть-семь лет, но все же он не ожидал увидеть
столь изменившейся свою молодую красивую царицу. Перед ним сидела на троне
рано постаревшая, усталая, надломленная женщина. Глаза ввалились, краски
не могли скрыть ни преждевременных морщин на лице, ни преждевременных
седин. Значит, враги терзали не только саму Грузию, но и ее царицу. Хотя
она жила в относительной безопасности за хребтом, через который не
переступил ни один вражеский воин, семь лет не прошли бесследно. Бессонные
ночи, проводимые в бесплодных, бессильных думах и заботах о делах страны,
бесконечные сетования про себя на свою судьбу, на день и час, когда она
появилась на свет, отняли не только красоту Русудан, но и ее прежнюю
жизнерадостность. Она глядела теперь на все вокруг себя не глазами молодой
избалованной женщины, но холодными глазами мудреца, который все видел, все
познал и пришел к последней мысли, что, как ни борись, как ни
сопротивляйся, все равно судьба будет права и за ней останется последнее
слово.
Торели поразила перемена в царице. Ему стало жалко Русудан. Ведь она
была нисколько не виновата в том, что родилась царицей. На ее нежные
хрупкие плечи, видимо, легло такое бремя забот, ее окружило вдруг столько
горя, что, верно, выдержать все это было бы тяжело самому мужественному и
сильному человеку. Никогда еще Грузия не переживала такого лихолетия, и
никогда еще у нее не было такой женственной, такой утонченной, но и такой
слабой царицы.
Не устроилась и ее личная жизнь, хотя каждое ее желание было законом
и беспрекословно выполнялось. Ее жизнь, ее царствование пришлись на годы,
когда налетела страшная буря и все смешала, все скомкала, все смела. А
теперь вот, едва-едва утихли порывы этой бури, нависает на небосклоне
черная туча нового урагана.
Торели побывал в самой середине бури и вышел из нее живым. Теперь,
глядя на усталую женщину, сидящую на троне, он увидел, насколько она
слаба, насколько она неспособна встретить и остановить новую волну беды,
движущуюся для того, чтобы окончательно, может быть, смести с лица земли
Грузинское царство. Чтобы принять удар этой волны, нужна мощная грудь и
мощные руки. Со слезами на глазах ожидала царица новое испытание. Но что
могут сделать слезы женщины? Разве они могли остановить монголов?
Торели, не в силах выдержать полный слез взгляд царицы, печально,
безмолвно преклонил колена перед ее троном. Царица произнесла:
— Мы очень рады приветствовать тебя, рады твоему возвращению в
Грузию. Мы потеряли надежду увидеть тебя живым и невредимым. Ходили слухи,
что тебя сразила вражеская сабля и что ты отдал жизнь за Грузию, так же
как твои доблестные родственники Шалва и Иванэ Ахалцихели, так же как все
другие грузины, сложившие свои головы во славу и процветание грузинской
земли.
— Господь оказался милостив ко мне, хотя я почел бы за счастье
умереть там, у Гарнисских скал, и не видеть такой печали на лице
боготворимой царицы, не видеть таких притеснений, такого горя, такого
разорения нашей родины.
— Нам известна твоя верность трону и Грузии. Но мы бессильны достойно
отблагодарить тебя за твое геройство и за твои страдания. Бог воздаст тебе
достойнее, нежели мы, ибо ни один земной царь не сравнится с царем
небесным милосердием и мудростью. Мы же, с нашей стороны, решили
пожаловать тебе княжество — и тебе, и детям твоим, и всем потомкам твоим
на вечные времена. Как только успокоится страна и наладится жизнь, ты
получишь и владения, соответствующие твоему новому званию.
Царица взяла из рук первого министра жалованную грамоту и подала ее
Турману Торели. Новый князь опустился на колени и трижды с благоговением
поцеловал край одежды царицы. Русудан приказала ему сесть на скамью. Поэт
тотчас присел на то место, на которое садятся обыкновенно визири и
эристави. Царица между тем говорила:
— Великий государь Иконии прослышал про красоту нашей дочери, прислал
нам великие дары, умоляет отдать ему в жены нашу Тамар, но мала еще наша
дочь.
Торели слышал о могуществе Кей-Кубада. Кей-Кубад именовал себя
властителем восточных и северных стран. Еще до прихода монголов он положил
предел владениям хорезмшаха. В своих же владениях он держал почти всю
Византию по ту сторону моря, и здесь, в Передней Азии, у него не было
серьезных соперников. Но Кей-Кубад был уже пожилым человеком, и поэтому
Торели переспросил:
— О ком вы изволите говорить, царица, неужели о Кей-Кубаде, сыне
великого Рукн-эд-Дина?
— Кей-Кубад скончался. Но его младший брат Киас-эд-Дин занял теперь
его трон.
— О Киас-эд-Дине я тоже слышал, царица. Он очень миролюбив. Не любит
ни войн, ни смуты. И говорят, что весьма просвещен. Говорят, что он собрал
со всего света зверей и птиц. Чтобы смотреть на диковинных зверей и
послушать диковинных птиц, приезжают люди из других стран.
Торели умолчал о том, что, помимо зверей и птиц, Киас-эд-Дин известен
еще как покровитель магов, волшебников, а также любит пить вино и его
гарем, вероятно, не менее обширен и оригинален, чем его знаменитый
зверинец.
Царица добавила:
— Доблестный султан Киас-эд-Дин клянется, что не заставит нашу Тамар
отречься от Христовой веры, и обязуется построить для нее особую
православную церковь.
— Великое благо для Грузии породниться с таким могущественным и
знаменитым султаном. Пока я был в плену, царская дочь выросла, слава о ее
красоте достигла вот и далеких стран. Да благословит господь будущее
царствование Тамар в Иконии. Пусть будет счастливой дружба двух наших
стран.
Торели, воздев руки, взмолил бога о благоденствии царицы и принцессы.
Затем опустился на колени, поцеловал край одежды царицы и снова сел на
свое место.
До поздней ночи он рассказывал царице о Гарнисской битве, о своих
злоключениях в плену, о судьбе Шалвы Ахалцихели, о летописце Мохаммеде
Несеви, о самом Джелал-эд-Дине, о его бегстве и о последних днях и часах
его жизни.
Вскоре царица собрала дарбази. После ухода хорезмийцев и переезда
царского двора из-за Лихского хребта в столицу это было первое собрание
дарбази. Торели тоже был приглашен в соответствии со своим новым княжеским
титулом.
Когда Торели, усевшись на свое место, обвел глазами дарбази, то
немало удивился. Не было многих из тех, кому полагалось быть. Не пришел
Варам Гагели. Не видно было и амирспасалара Авага, занявшего место своего
отца. Из князей Западной Грузии не присутствовали Дадиани и аристави
Сванетии.
Пока господствовали хорезмийцы, князья, чьи владения находились по ту
сторону Лихских гор, отсиживались в своих крепостях и теперь отвыкли от
двора и даже вот не явились на зов царицы, чтобы участвовать в обсуждении
и решении дел единой и неделимой Грузии.
В дарбази было много молодых лиц — сыновья, наследники, сменившие
своих отцов, князей и вельмож, погибших во время нашествия.
Обсуждались внутренние и внешние дела Грузинского царства.
Все были рады уходу хорезмийцев. Эта радость, — хотя о какой радости
могла идти речь! — может быть, и не удивила бы Торели, когда бы новая, еще
более страшная беда не нависла над страной.
Все в один голос воздавали хвалу царице за то, что она своим мудрым
управлением сумела выиграть эту войну. Потоки красноречия изливались по
поводу героизма, отваги, непобедимости грузинских войск.
Торели попросил слова. Все слушали затаив дыхание подробности о битве
при Гарниси. Но дальнейшая речь Торели понравилась уже не всем. Он снова
напомнил о том, что надвигаются полчища монголов, шутить с этим нельзя.
Именно в страхе перед монголами рассеялись войска Джелал-эд-Дина и сам
бесстрашный и могущественный султан погиб, преследуемый ими. На юге
монголы появились чуть не у границ грузинской земли. Надлежит как следует
подготовиться к их приходу, иначе наше государство и наш народ будут
стерты с лица земли раз и навсегда.
Торели кончил говорить и окинул взглядом присутствующих. Большинство
отводило глаза от его взгляда. Члены дарбази либо смотрели в пол, либо
морщились, переговариваясь между собой. Речь Торели не понравилась
дарбази. От придворного поэта ждали воспевания, восхваления и прославления
грузинской царицы и грузинского воинства. А он вместо этого начал говорить
о могуществе врагов Грузии. Получалось, что именно Торели, точно ворон,
накаркал на Грузию новую беду. К монгольской угрозе, как видно, никто не
отнесся серьезно. Пока что монголов не слышно и не видно. Кто знает,
доберутся ли они до Грузии и захотят ли ее завоевывать.
На втором заседании дарбази разбирались внутренние дела. Первый
визирь Арсений долго говорил о зверствах хорезмийцев и о разорении всей
страны, лежащей по эту сторону Лихских гор. Торели все ждал, что сейчас
визирь начнет говорить о том, как скорее возвратить бежавшее в горы
население, как помочь этим людям, чьи жилища сожжены, возродить свое
хозяйство, виноградники, скот, как скорее добиться, чтобы грузинская земля
вновь зацвела садами.
Но первый министр начал говорить о том, что самое важное — построить
для царицы новый дворец, такой, чтобы он своей красотой и славой затмил
все предыдущие дворцы, включая и палаты Русудан, которые были отделаны
перед самой войной. Это нужно для того, пояснил визирь, чтобы имя царицы
Грузии не потеряло в глазах иноземцев своего величия, а царский венец
своего блеска.
Но из дальнейшей речи первого министра выяснилось, что казна
совершенно пуста. Большая ее часть досталась Джелал-эд-Дину, когда он взял
Тбилиси, а все остальное, что хранилось за Лихским хребтом, истрачено на
войну с хорезмийцами.
«Тем более, — думал Торели, — нужно заботиться в первую очередь о
восстановлении сил страны. Тогда и казна скоро пополнится. Тогда хватит
денег и на армию, и на новую войну, и на царские дворцы. Но начинать с
дворцов...» Строительство роскошных дворцов в условиях разоренной страны
казалось Торели не только неразумным, но и преступным.
Но когда первый министр, обращаясь к дарбази с призывом, вдруг
растроганно провозгласил, что нельзя допустить, чтобы царице Грузии негде
было переночевать, то на глаза вельмож набежали слезы. Дарбази единодушно
принял решение взять золото для строительства новых царских палат из
кладохранилища Хвамли, то есть из самых неприкосновенных государственных
сокровищ.
Среди восторгов и всеобщего воодушевления Торели заметил, что
несколько вельмож, членов дарбази, как и он, недовольны поспешным
решением. Но никто из них не осмелился идти против общего настроения, и
все они предпочли промолчать.
Заседание дарбази кончилось. Торели ушел в тяжелом и мрачном
настроении. Он шел длинными коридорами и думал, как быстро, за
какие-нибудь шесть лет, расшатались основы могущественной Грузии. Многие
влиятельные князья отошли от трона, отстранились от государственных дел.
Царские визири разучились говорить правду, развилось лицемерие,
подхалимство, лукавая лесть. Все думают о своем благоденствии, а заботы о
государстве переложили на богородицу, надеясь на ее заступничество, а не
на свой разум, на свои силы.
Беспечность правителей Грузии уже теперь расшатала и подорвала
могущество царства. В дальнейшем же она грозит окончательной гибелью.
За этими тяжелыми раздумьями застал Турмана Торели посланец от
первого министра. Арсений зачем-то вызывал поэта к себе.
Первого министра Торели застал в таком благодушном настроении, будто
тот только сейчас положил к ногам грузинского трона новое вассальное
государство и принял великую дань. Он обнял Торели, похлопал его по
плечам, всячески обласкал, похвалил его талант, геройство при Гарниси, а
потом уж высказал пожелание.
— Наш народ, — сказал первый министр, — очень нуждается в ободрении.
Нашествие хорезмийцев поколебало в нем веру в непобедимость Грузии и в
богоравное всемогущество трона. Мы должны вновь укрепить в нем эту
поколебленную веру. Народ должен снова поверить в свою силу, а воплощением
этой силы он должен считать царицу Русудан. Он должен считать ее
источником добра и счастья, так же как он считал и считает великую царицу
Тамар.
Епископ Саба уже сочинил стихотворное послание к народу, и в этом
обращении он высказал те же мысли, что и в сегодняшней речи. Но слог
епископа тяжел. Его ямбы звучат искусственно, и народ едва ли полюбит их.
Его обращение, конечно, будет произноситься священниками во время
богослужения, но сейчас надо сочинить что-то такое, что народ заучивал бы
наизусть, передавая из уст в уста. Только твой вольный сладкопевный стих
может пригодиться здесь. Твои стихи будут распевать во всех уголках
страны, их будут пересказывать друг другу.
Итак, ты должен воспеть и восхвалить царицу. Но теперь нельзя
ограничиться восхвалением только бровей и ресниц, ланит и уст, очей и
жемчужных зубов, как это делалось во дни благоденствия государства. Нет.
Нужно восхвалить мудрость царицы, ее заботы о государстве, ее
самопожертвование ради интересов народа.
Турман смущенно пробормотал:
— Подумаю... Постараюсь.
— Главное, ничего не пиши о приближении монгольского войска. Только
напугаешь народ. А народ нуждается в ободрении, и ни в чем больше. Можешь
написать и о заступничестве богородицы.
Торели снова забормотал:
— Подумаю... Если смогу... Я давно уж ничего не писал...
— Зайди к казначею, он отсчитает тебе плату за эти стихи. Правда, ты
теперь князь, и тебе эта царская милость может показаться
незначительной...
Торели уходил быстрым шагом, задыхаясь от злости и не слыша последних
слов первого министра.
После того как царица Русудан сердечно приняла Турмана Торели и
пожаловала ему княжеский титул, все князья Грузии почли за должное
пригласить его к себе в гости. Его звали то в один край Грузии, то в
другой. И везде он, как вернувшийся с того света, рассказывал о том, что
пришлось пережить за пять-шесть лет плена и странствий вместе с
канцелярией Джелал-эд-Дина, о самом Джелал-эд-Дине и его гибели.
Самым первым пригласил Турмана Торели амирспасалар Аваг. О Гарнисском
сражении ходило в народе и при дворе множество самых разнообразных слухов.
Люди утверждали, если не прямо, то намеками, что виноват в поражении был
амирспасалар Мхаргрдзели. Теперь, если живой герой Гарниси Турман Торели
пришел бы в гости к сыну покойного амирспасалара, унаследовавшему его
должность, Авагу, то народ убедился бы, что Иванэ Мхаргрдзели не виноват.
Вот почему Аваг встретил своего приятеля с искренней радостью. Ведь и
раньше, до войны в годы цветения и благоденствия, они все время пировали и
развлекались вместе.
В Биджниси Аваг устроил пышное празднество. Он пригласил избранных
людей государства, чтобы достойно встретить живого героя Гарнисской битвы.
Так как Торели во время пира снова начал рассуждать о монголах, то
Аваг довольно сухо сказал:
— Может быть, и придут. Но с тем же и уйдут, с чем пришли, как было
однажды.
— Тогда они приходили просто так, на разведку, а не для того, чтобы
завоевать Грузию и утвердиться здесь. Этим отрядам Чингисхан приказал лишь
разведать подступы к нашей стране. Теперь же по дорогам, разведанным теми
отрядами, двинулись основные силы татар. Они надвигаются, как саранча. Они
уничтожают все на своем пути, оставляя голую землю. Разве непонятно, что
нам следует подготовиться лучше, чем тогда, в первый раз? Нам нужно
собрать больше войск, чем было у царя Лаши при первой схватке с монголами.
Амирспасалар невольно рассмеялся:
— Ты шутишь, Торели. Такое войско, какое имел Лаша, Грузия соберет не
скоро. Страна разорена хорезмийцами, селения уничтожены, народ разбежался
в горы, он напуган, и дух его сломлен.
— Так что же, открыть монголам двери в свой дом — словом, сложить на
груди руки и ждать, пока они придут? Отдать страну без боя?
— Ну... Почему без боя? Каждый должен сделать свое. Грузия — страна
горная. Наши крепости неприступны. Монгольские кони непривычны к нашим
горам. Здесь нет привольных пастбищ для такого несметного войска. Одним
словом, монголам не понравится в нашей стране, и они постараются как можно
скорее ее покинуть...
Разговор с амирспасаларом окончательно испортил настроение Торели, и
с пира он ушел еще мрачнее, чем шел на него. Еще бы! Главнокомандующий
войсками Грузии, который в первую очередь должен заботиться о защите
страны, совсем не разбирался в обстановке и к надвигающейся войне
относился беспечно.
По дороге с пира Торели заехал к двоюродному брату Шалвы Ахалцихели
Вараму Гагели. Седовласый ветеран, весь изрубцованный в боях, бессменный
визирь царицы Тамар, а потом и ее наследников, Варам Гагели тоже был
недоволен положением в стране.
— Гибель нашей страны началась со смерти Лаши. Если бы у Грузии был
сильный царь, не случилось бы Гарнисского поражения и хорезмийцы не
проникли бы в пределы Грузии, — сетовал Варам своему молодому другу.
— Я тоже об этом думал. У Лаши была твердая рука, капризных и
своевольных князей он либо приручал, либо по принципу Давида Строителя
резко отстранял от себя. Лаша сам водил войска, мгновенно пресекал распри
между военачальниками.
— Да. А что требовать от слабой и нежной женщины.
— А теперь говорят, будто мы непрерывно воевали с Джелал-эд-Дином.
— Воевали, попрятавшись в крепостях и в горах. Когда основное войско
султана уходило дальше, выскакивали и щипали оставшиеся отряды. Султан
возвращался и жестоко карал, расправляясь с нами, словно с маленькими
детьми. Одни только мои владения Джелал-эд-Дин разорял восемь раз. А под
конец, разъярившись за сожжение Тбилиси, ночью напал на Гаги и Шамхор и не
оставил там камня на камне.
— А говорят, что много раз собирались бесчисленные войска, но только
не могли одолеть султана.
— Войска-то, может, и собирали. Но для всякого дела, а тем более для
войны, нужна еще и голова. Мы только еще начинали готовиться к войне или к
сражению, а весь мир уже знал об этом. Враг опережал нас и поэтому
побеждал.
Возьми хотя бы последнее большое сражение, то, что произошло у
Болниси. Все ведь было хорошо рассчитано, взвешено и перевешено. С юга
должны были прийти союзные нам войска хлатского мелика и румского султана.
Немало было и нас, грузин. Если бы мы успели соединиться, то Джелал-эд-Дин
ни за что не справился бы с нами и мы могли бы отпраздновать победу. Но
что же произошло? Мы еще не тронулись с места, а султан уже знал все, что
мы будем делать. Он знал также и место, где мы должны были собраться в
один кулак. Конечно, султан с его решительностью и стремительностью
опередил наши действия. Наши союзники не вышли еще из своих городов, а
султан уже напал на нас, рассеял и истребил. Нет, если сам царь не воин и
не может лично вести войска, не жди победы.
— Великая Тамар не водила войск, но был разбит напавший на нас султан
Рукн-эд-Дин, да и все остальные войны тогда кончались для нас победой. А
ведь войска Рукн-эд-Дина были ничуть не хуже, чем у хорезмийского султана.
— Тамар! Тамар действительно была богоравной. Пожертвовать ради нее
жизнью считал за честь каждый грузин — и великий и малый. Тамар богом было
дано провидеть будущее. Она была награждена мудростью. Если каждый считал
за радость умереть за нее, то и она готова была пожертвовать собой ради
своих подданных. Она жертвовала всем ради страны и трона. Не в пирах, не в
развлечениях проводила она свои ночи, но в усердных молитвах, в заботах о
своем народе. Верных ей она награждала царской милостью, а неверных
обращала в правоверных умом и добротой сердца. Если бы наследники Тамар
оказались достойными ее самой, если бы Грузия хотя бы еще сто лет шла по
пути, намеченному Тамар, то государство наше успело бы укрепиться
настолько, что никогда уж и никто не сумел бы его сломить.
— Какие были мечты! Горе нашему поколению, что мы погубили эту
исконную мечту всех лучших грузин.
— Погубили. И, кто знает, может быть, навсегда.
— Кто знает, — горестно вздохнул Торели. Много всего было в этом
вздохе. В нем надежда так сплелась с отчаянием, что трудно было понять,
верит или не верит Торели в возрождение могущества Грузии.
— Грузию погубило излишнее богатство, роскошь, беззаботная жизнь. Мы
забыли, что все богатство наше добыто мечом. Значит, мечом же нужно было
его защищать. Богатство — как кувшин с вином, стоящий на высоком
треножнике. Если треножник упадет, вино прольется, а сам кувшин разобьется
о камни. Наслаждаясь жизнью, мы увлеклись и забыли, что наше благополучие
держится на могуществе государства. И вот, когда оно расшаталось и
развалилось, кувшин очутился на земле.
— Все несчастны в нашем поколении, от царя до мелкого азнаури. От нас
зависело будущее нашего царства, и что же мы ответим на суде, который
устроят для нас потомки? Вместо цветущей, благоденствующей страны мы
оставляем им пожарища и развалины, вместо вольной и гордой жизни завещаем
рабство и кандалы.
— Ты не совсем прав, Турман. Не только наше поколение виновато в
упадке царства. Червь давно уж подтачивал тот самый треножник. Мы виноваты
лишь в том, что развалился он на наших глазах. Велика богоподобная Царица
Тамар. У какого грузина повернется язык, чтобы хулить ее? Но да простит
меня ее святость, кое-что можно спросить и с нее. Да, она во всем
отказывала себе ради благ народа. Да, она была чужда пиров, развлечений,
забав, роскоши, беззаботной жизни. Она лишала себя даже отдыха — все это
так. Но все, чего она лишала себя, она в избытке предоставляла своим
детям, наследникам грузинского трона. Строгая и требовательная к себе, она
вырастила своих детей изнеженными, избалованными, капризными. В этом
подражали Тамар и мы, царедворцы. Мы охраняли от всяких испытаний, от
всякого ветерка своих сыновей и вырастили из них беззаботных кутил. Наши
дети думали, что за спиной отцов всю жизнь они проведут в неге и холе, а
что получилось? Один за другим ушли закаленные в испытаниях, видевшие беды
и горе отцы, остались на сцене сыновья, умевшие лишь одно — прожигать
жизнь. Они быстро пустили по ветру все, добытое мечами отцов, они
оказались неспособными управлять страной, государство ослабло и почти
развалилось. Как видишь, дорогой Турман, виновато не только твое
поколение. Может быть, и великая Тамар, и доблестный Захария Мхаргрдзели,
и я, и другие столпы Грузинского царства одинаково повинны будем перед
потомками в той горькой доле, на которую мы их обрекли.
— Как же так? Все понимают причины, отчего гибнет царство, и никто
ничего не может сделать. Почему никто не может внушить нам всем дух
единства и патриотизма, нам, разбредающимся в разные стороны?
— Вселить дух может только бог либо его же волею царствующий царь. За
тобой или за мной никто не пойдет. Все князья и вельможи никогда не
подчинятся кому-нибудь другому, кому они и сами равны. Один должен быть
выше и сильнее всех. А главное, его власть должна быть не взята им самим —
тогда каждый будет думать: почему он, а не я? — но предопределена. Нам
нужен сильный, умный и заботливый царь. Пока у Грузии не появится такого
царя, не видать ей добра.
— Пока нет у Грузии сильного царя, должны встать рядом с царицей
сильные люди, подобные тебе, Варам Гагели. Ты и твои друзья-ветераны, те,
кто еще жив, должны окружить царицу опекой и советом, должны своими
могучими плечами, могучим духом поддержать трон. Пусть вы будете
помощниками Русудан, так же как были помощниками Тамар братья Мхаргрдзели.
Вы должны прогнать от двора лицемерных и корыстных царедворцев, лживых,
льстивых, думающих только о себе. Вы должны укрепить корону на голове
царицы, вы должны вернуть уважение к границам Грузии. Вы должны укрепить
народ и армию для встречи нового врага. Ты сам, Варам Гагели, храбро
сражался с монголами при появлении около Грузии их передового войска,
ведомого Джебе и Субудаем. Теперь надвигается основная масса монголов.
Государства куда сильнее нас не смогли им противостоять. Время еще есть,
может быть, сможем приготовиться.
— Э, — махнул рукой Варам Гагели, — ничего все равно не выйдет.
Десницей Джелал-эд-Дина нас покарала сама судьба. Мы теперь так разорены и
обессилены, что нечего и думать воевать с монголами, а главное — Грузия
сломлена духовно. Нужно время, чтобы перевести дух. Монголы нам этого
времени не дадут. Мы обречены. Единственная надежда на то, что монголы не
нападут на Грузию.
Торели слушал своего старшего друга и думал, что на это нужно меньше
всего надеяться. Но так как больше не было вовсе никакой надежды, то и у
него в глубине души шевелилось смутное чувство самообмана... А вдруг
монголы увязнут в войне с могущественным Багдадским халифатом и всеми
другими мусульманскими странами, вдруг им будет не до Грузии и уже
занесенный над нею меч просвистит мимо.
Торели уехал в Ахалдабу, где жили мать Цаго и его единственный сын
Шалва. Торели купил усадьбу и решил навсегда уединиться, посвятить себя
воспитанию сына. Шалва уже подрос. Он весь был точная копия Цаго.
Характером Шалва тоже походил на мать — такой же гордый, такой же добрый,
но неуступчивый.
В оставшихся днях жизни Турман видел лишь один смысл — воспитать
своего маленького сына, позаботиться о его счастье. С утра отец с сыном
занимались грамотой. Потом они шли в поле, и тут начиналась другая
грамота. Мальчик садился на коня, он обучался игре в човган, он обучался
владению щитом и мечом. Наука мужества давалась ему так же легко, как и
обыкновенная грамота. Торели радовался, словно ребенок, видя успехи сына.
«Будет похож на Шалву, на своего знаменитого дядю и тезку», — думал
Торели в это время. В глубине души Турман только и мечтал, чтобы его сын
вырос похожим на великого грузинского рыцаря, чтобы он вырос таким же
большим, стройным, сильным и умным, как Шалва Ахалцихели. Отец старался
внушить сыну бескорыстную любовь к родине и народу, он старался вырастить
из мальчика образованного человека, просветителя, сказочного воина и
верного слугу отечества.
Два месяца продолжались ежедневные занятия отца с сыном, как вдруг
прискакал гонец. Он передал Торели письмо от первого министра.
Арсений по-отечески справлялся о здоровье Торели, сетовал, что не
видно при дворе знаменитого придворного поэта, между прочим напоминал: все
ждут обещанного восхваления царицы Русудан, о котором однажды было
договорено. Снова напоминалось о том, что епископ Саба уже сложил свои
ямбы, что они всем нравятся, но все-таки все с нетерпением ждут стихов
поэта Торели. Под «всеми» надо было понимать, что ждет и сама царица.
Письмо живо напомнило Торели всю обстановку двора, в которой он столь
разочаровался. Вспомнилась вся толпа льстецов, суетящихся у подножия
трона, вспомнились лицемеры, для которых нет на свете ничего святого,
которые все силы тратят на то, чтобы добиться высоких званий и степеней, а
власть используют, чтобы умножить свои доходы, нахватать взяток.
Но письмо первого министра напомнило Торели и о другом, а именно о
том, что он все же поэт и как давно он не брал в руки пера, не сидел, не
мучился над бумагой. Уж не разучился ли он за это время писать стихи?
Торели сел писать восхваление, хотя в душе у него не было ничего,
кроме жгучей горечи за Грузию, настигнутой бедами, и кроме возмущения
беспечностью нынешних правителей страны.
Давно не брался за перо придворный поэт Торели. Сначала отвыкшая рука
никак не хотела двигаться по бумаге, потому что в душе и в уме не могло
зародиться ни одной строки. Потом тяжело и трудно легли первые строки,
потом Торели забылся, крылья его вдохновения снова распрямились, и стихи
легко и вольно полились один за другим. Пожалуй, никогда не писал Торели с
таким подъемом и жаром. Только не получалось у него восхваление Русудан,
заказанное царским двором, но выплескивались на страницы сокровенные
душевные скорбь и боль, которые, как потом оказалось, были скорбью и болью
всего народа. Торели писал восхваление герою Гарнисской битвы Шалве
Ахалцихели.
В первых главах поэт воспевал сказочное мужество Шалвы, его
бескорыстие и беспредельную любовь к Грузии. В тяжелых войнах, в Басиани и
Шамхоре, во время взятия Гандзы и Нахичевана, в далеких легендарных
походах к берегам Черного моря и в Иран, а также в жарких схватках с
монголами всегда побеждала сабля Шалвы Ахалцихели. Один только блеск этой
сабли заставлял врага зажмуриваться или отворачивать лицо, потому что она
блестела ослепительно, как солнце.
В ужасном Гарнисском бою Шалва оказался единственным из всех
грузинских военачальников, кто грудью встретил напор врага и не показал
хорезмийцам спины. И хотя убили под ним коня и сабля переломилась по самую
рукоятку, все же он как богатырь продолжал сражаться с врагом.
После воспевания мужества, силы и благородства Шалвы в поэме следовал
плач по четырем тысячам месхов, которые все до одного положили свои головы
у Гарнисских скал за родину.
Много было врагов, сто на одного месха, но месхи не отступили ни на
один шаг. Поэтому нельзя сказать, что они были побеждены. Они были просто
убиты. Они на веки вечные прославили грузинское мужество.
Эти главы поэмы были особенно поэтичны. Сила так и клокотала в них.
Здесь Торели ярко живописал родную грузинскую природу, как это полагается
в плаче. Здесь же он обрисовал и отдельных месхов, и отдельные картины
боя, те, что врезались в память, ибо поэт сам ведь был там и все видел. С
горечью и болью плакал поэт над памятью павших, с гневом и яростью
проклинал тех, кто должен был помочь месхам и не помог.
В последних главах «Восхваления» Торели рассказал о пленении Шалвы
Ахалцихели, о его достойном и мужественном поведении в плену и, наконец, о
принятии мученической смерти. Поэт провозглашал Шалву Ахалцихели славой и
совестью народа, героем и мучеником, умершим за величие родины, за святую
веру.
От имени Шалвы поэт призывал всех грузинских рыцарей, в ком бьется
еще честное сердце и в чьих сердцах живет еще хоть искра любви к Грузии,
подняться на защиту родной земли.
Кончалось «Восхваление» гимном, прославляющим Грузию.
Несколько дней Торели ходил как в тумане. Все, что он думал и
чувствовал, уже перенесено на бумагу, но все оно еще и в душе поэта. Он
ходил, бормоча свои собственные стихи, мысленно перечитывал их, исправлял,
зачеркивал, писал заново. Наконец наступило великое облегчение, которого
не понять тем, кто не носил в гору камней на своих плечах, кто не писал
стихов или картин и кто не освобождался от бремени.
Немного успокоившись, Торели переписал свое «Восхваление», сделав
несколько одинаковых списков. Один список он послал семье Шалвы
Ахалцихели, второй — в Гаги двоюродному брату Шалвы Вараму Гагели,
третий — книжнику-летописцу Павлиа в монастырь. Несколько списков он
положил в дорожную суму и отправился с ними в Тбилиси.
Всюду в столице Торели, оглядываясь по сторонам, удивлялся переменам.
Всюду чинили, латали, обновляли разрушенные дома. Во многих местах
возводились новые здания. В торговых рядах и лавках, тоже восстановленных,
парило оживление, почти как в мирное время. Но многие дома и целые улицы
все еще стояли покрытые сажей, с выбитыми стеклами и напоминали больше ямы
и логова первобытного человека, нежели жилища современных людей.
Издали бросались в глаза поднимающиеся в небо леса над Курой: на
месте бывших палат Русудан возводились новые, еще более пышные палаты.
Бесчисленные вереницы арб со всех сторон тянулись к месту стройки. Они
везли известь, камень, доски. На лесах и вокруг лесов был настоящий
муравейник. Каменщики, плотники, подносчики камней трудились там.
На узенькой улочке внимание Торели привлек отсвет огня из гончарной
мастерской. Что-то потянуло заглянуть и в саму мастерскую. В глубине
полутемного помещения топилась печь, обжигались горшки, кувшины и миски.
Недалеко от порога сидел на чем-то низком по-прежнему заросший бородой
слепой Ваче. Он бренчал на чонгури и низким голосом про себя напевал
какую-то песню.
Торели тотчас спешился, зашел в мастерскую, обнял и расцеловал своего
несчастного друга. Ваче отложил чонгури, подвинулся, давая место Торели.
Поэт присел рядом со слепцом на обрубке бревна.
— Ну как ты, что делаешь, зачем забрел в мастерскую?
— Копчу небо. Ни один живой человек не может жить без работы. Вот я и
устроил себе эту маленькую мастерскую, леплю посуду, обжигаю. Глаз у меня
нет. Но во время работы я руками вижу лучше, чем зрячий. Теперь это уже не
пальцы живописца, а пальцы гончара.
Ваче вытянул руки и поразительно быстро заиграл пальцами, точно
крутился в это время гончарный круг и под пальцами была мягкая глина, а не
пустое место.
— Цаго, — крикнул Ваче в глубину мастерской, — Цаго, покажи гостю,
какие кувшины и пиалы научился я делать.
Услышав имя Цаго, Торели смутился. Ваче, должно быть, догадался о
смущении гостя. Он опустил голову и негромко, как бы извиняясь, сказал:
— Мою дочку зовут Цаго. Она всего лишь на два года моложе твоего
Шалвы.
У полок с готовой посудой появилась девочка. Она снимала на выбор
пиалы, кувшины, суры и азарпеши. Торели с восторгом разглядывал изящные
изделия слепого. Исполненные в форме разных зверей суры и чинчилы,
украшенные строгим, но красивым орнаментом пиалы были действительно
редкими образцами искусства.
— Прекрасно, изумительно, великолепно! — то и дело восклицал
Торели. — Ты молодец, Ваче. Дар первейшего художника Грузии не пропал и
здесь.
— Тебе и правда понравилось? — обрадовался Ваче как ребенок, больше
чем тогда, когда видные сановники хвалили его живопись во дворце
Русудан. — Тогда возьми себе на память лучшее, что здесь есть. Цаго,
отложи гостю павлинью суру и чинчилу в виде маленькой лани. Остальное
пусть гость выберет сам на свой вкус.
Торели начал отнекиваться, но, видя, что подарков не избежать,
отобрал некоторые вещи, отложил их в сторону, а сам снова сел рядом с
Ваче.
— Бренчишь на чонгури?
— А что делать, Турман. Под чонгури лучше поется. А без песни, как и
без работы, я не могу. Много горечи на душе. Отвожу душу песней, подбираю
музыку к разным стихам.
— Вот как! Тогда прими и от меня подарок. Я только что закончил
«Восхваление» Шалве Ахалцихели. Цаго тебе прочитает, и если стихи тебе
понравятся, то под чонгури будешь их петь. — Торели достал из сумы список
«Восхваления», уложил туда подаренную посуду и поднялся.
— Твои стихи, наверно, хороши, их легко будет петь под чонгури. —
Ваче стал ощупывать рукопись. — Подберу мотив, передам другим слепым
музыкантам, мы здесь — друзья по несчастью — часто встречаемся друг с
другом.
— Делай как знаешь. Я теперь пойду, но скоро я вернусь и тебя вместе
с Цаго возьму погостить к себе в Ахалдабу.
— Спасибо тебе, Турман, не забываешь бедного слепца. Спасибо. — Ваче
обнял плечи Торели своими огромными руками.
Подъезжая к летней резиденции царицы, Торели почувствовал, что
волнуется. До сих пор он как-то не задумывался, зачем он едет. Теперь,
когда цель поездки была близка, на него напали сомнения. Вместо
заказанного первым министром «Восхваления» Русудан он везет «Восхваление»
Шалве Ахалцихели. В его «Восхвалении» осуждаются беспечность, себялюбие,
корыстолюбие людей, управляющих страной, то есть тех самых людей, которым
он везет теперь свою поэму. Вероятно, она не доставит им удовольствия,
вероятно, и царица, и все царедворцы останутся недовольны и даже
разгневаются. Торели никогда не приходилось еще испытывать на себе
высочайший гнев.
Из буйной зелени показался вдали дворец царицы. Царские слуги,
придворные вышли встречать Торели, уже раскрылись перед поэтом двери,
возвращаться поздно, надо идти вперед.
К счастью, ни царицы, ни первого министра сейчас, с утра, не было во
дворце. «По крайней мере, не заставят читать «Восхваление» вслух, — думал
Торели. — А когда я уйду, пусть читают и наслаждаются». Поэт оставил
списки «Восхваления» для передачи царице и Арсению, а сам, не мешкая ни
минуты, покинул дворец и заспешил к себе в Ахалдабу.
Турман снова прочно засел в своем имении — ухаживал за посевами, за
виноградником, за садом. Он целыми днями, как простой крестьянин, работал
лопатой или топором. Он полюбил аромат подсыхающей на сено травы, запахи
свежевзрыхленной земли. В эту минуту затихала боль в сердце, притуплялась
печаль, забывались все беды и горести.
К тому же было еще одно, что скрашивало жизнь и веселило сердце. Это
мальчик Шалва, растущий сильным, стройным, трудолюбивым и умным. Шалва
скоро сделался вожаком всех деревенских мальчишек. Он командовал даже
ребятами гораздо старше себя. Позови Шалва, и тотчас все сбежались бы на
его зов. Поведи он их за собой, и все как один пошли бы. Прикажи броситься
в бурную реку, и все, не раздумывая, выполнили бы приказ.
Торели молился на маленького Шалву, потому что это было единственное,
что заполняло отцовское сердце. Общался Торели и с крестьянами,
присматриваясь к их жизни, к их характерам, к их приемам труда. Впрочем,
он сам вскоре стал походить на крестьянина. О своей внешности он не
заботился теперь, как прежде, отпустил бороду, редко смотрелся в зеркало,
не скрывал седин. Плечи его немного опустились, а руки как будто стали
подлиннее. Пройдя через испытания, которых хватило бы на несколько жизней,
он забыл о светском лоске и совсем потерял вкус к придворной изысканной
жизни. В гости он ни к кому не ходил, зато и его никто не навещал в
уединенном имении в Ахалдабе.
Однажды, возвращаясь из виноградника, Торели услышал песню. По дороге
гнали отару. За овцами с обеих сторон, высунув языки, бежали лохматые
овчарки. Скотоводы возвращались с летних пастбищ. Громкое блеяние овец,
разноголосое блямканье колокольчиков, шарканье бесчисленных копыт, лай
собак, окрики пастухов — все это слилось в общий шум, взбудораживший
деревню. Солнце заходило за край холма. Пастухи остановили отару у околицы
села, чтобы расположиться на ночлег. Утомленные жарой, пыльной дорогой и
дальним переходом, овцы тотчас сгрудились и затихли. Пыль, поднятая
отарой, постепенно рассеялась в воздухе. Через некоторое время, когда все
окончательно затихло и успокоилось, послышался звук пандури и полилась
песня.
Деревенские люди любят пение пастухов. Поэтому вскоре к костру
потянулись крестьяне из деревни. Торели тоже пошел за ними. Вокруг
пастухов, образовав плотный круг, стояли крестьяне. Из середины круга
раздавалось бренчанье струн, и сильный звучный голос певца выводил песню.
Голос поющего с каждым словом креп, становился увереннее, песня
мужественно звучала в тишине.
Кто говорит, что то был бой,
То с неба гром упал,
Когда стояли мы с тобой
Среди Гарнисских скал.
Узнав свои стихи, Торели вздрогнул и похолодел. Сердце его часто
забилось, к горлу невольно подступили слезы. Кое-как справившись с
волнением, он отошел в сторону и сел на камень, чтобы слушать, никому не
мешая.
О горе, горе, горе мне —
Не умер вместе с ними я.
Песня все набирала высоту. Струны пандури рокотали, то осуждая, то
призывая, то словно плача. Крестьяне слушали затаив дыхание. У многих на
глазах заблестели слезы. Безвестный певец пел теперь последнюю главу из
первой части «Восхваления», пел славу Ахалцихели и отваге рыцарей-месхов.
Кое-где он вставлял свои слова, но Турман не обращал на это никакого
внимания.
Все последние месяцы Торели чувствовал себя очень одиноким, хотя,
может быть, сам не признавался себе в этом. Он чувствовал, что всеми
забыт, никому не нужен, никто больше не интересуется не только его
геройством и его подвигом во славу родины, но и его стихами.
И вот в одну секунду рассеялись все сомнения Торели. Оказывается, его
стихи поют в народе. И уж если они проникли в те далекие горы, откуда
возвращаются теперь эти пастухи, значит, они распространились и ближе, по
долинам и холмам всей Грузии. Они звучат на пастбищах, по деревням, как
звучат здесь, на окраинах Ахалдабы, и призывают грузинских рыцарей на
новые подвиги.
Вы слышите, Шалвы призыв
Гремит среди долин.
Жену забыв, детей забыв,
На бой вставай, грузин!
Но если стихи поют даже в далеких горах, в народе, то, верно, они
знакомы и князьям и при дворе. Там их не знают, конечно, наизусть, но, по
крайней мере, читают. Судя по всему, царский двор разгневан. За это время,
что Торели уединился в Ахалдабе, не однажды собирали дарбази. Однако
Торели не получил ни одного приглашения. Да и вообще по другим делам его
тоже не приглашают. Это молчание — несомненный признак гнева первого
министра, а может быть, даже и царицы. Но с сегодняшнего вечера, с той
минуты, как Торели услышал стихи из уст пастуха, ему ничего не страшно,
даже царский гнев. Если народ понял и подхватил его стихи, если в глазах
народа поэт разоблачил то, что хотел разоблачить, и воспел то, что он
хотел воспеть, то, значит, ничего больше не нужно.
Между тем наступила осень. В садах отяжелели ветви, поспел виноград.
Торели давно собирался пригласить к себе Ваче вместе с маленькой Цаго.
Осень — самое подходящее время для того, чтобы звать гостей.
Родной дом Ваче после смерти его матери постепенно пришел в упадок и
теперь стоял разоренный. Ваче, наверное, сам мечтает побывать в родной
деревне. Но нет у него здесь никого, к кому он мог бы приехать, негде
приклонить голову, нет очага, около которого можно было бы погреть руки.
Торели решил пригласить Ваче к себе, причем оставить его у себя
надолго — пусть отдохнет в родном краю и если не увидит родных холмов, то,
во всяком случае, подышит родным деревенским воздухом.
Он велел заложить быков в арбу и послал человека за Ваче и Цаго.
Встречать гостей Торели вышел на край деревни. Еще издали он увидел, что
на арбе сидит одна только маленькая Цаго, а Ваче нет. Девочка с плачем
спрыгнула с арбы и бросилась к Торели, причитая:
— Дядя Турман, дядя Турман, они увели моего папу. Я осталась одна.
Они его увели.
— Куда можно увести слепого человека, кто увел? Успокойся, не плачь.
Это какое-то недоразумение, все уладится.
Но Цаго плакала пуще прежнего. С трудом удалось ее успокоить, и тогда
она рассказала, как было дело.
— Два дня назад папа сел отдыхать у порога мастерской, — рассказывала
девочка. — В руках, как всегда, он держал чонгури. Потихоньку он напевал
те стихи, что ему подарили вы, когда заходили к нам в мастерскую в прошлый
раз. Послушать песню собрались люди. Когда папа пел, всегда около
мастерской толпился народ. Слушая ваши стихи, люди становятся печальными и
задумчивыми. Так было и в этот раз. Некоторые подпевали отцу, некоторые
всхлипывали и вытирали глаза.
Вдруг откуда ни возьмись появился епископ Саба в окружении свиты.
Слушатели перед ним расступились. Он подошел к моему отцу и хотел вырвать
у него из рук чонгури. Но отец сильный, и вырвать у него из рук что-нибудь
не так просто. Старик обозлился, стал дергать за чонгури и кричать: «Как
ты смеешь при всем народе петь такие непотребные песни о нашей царице и
стране!»
Отец сначала не понял, кто это на него напал и что нужно этому
человеку. Он мирно начал просить, чтобы его оставили в покое, что ему и
без этого тошно жить на свете. Но обозленный старик не отставал. Он
кричал, что все равно отнимет это проклятое чонгури и разобьет его о
камни. Слушатели начали заступаться за Ваче, но только словами, конечно.
Кто посмел бы дотронуться до епископа. Епископ разозлился еще больше и
стал дергать за чонгури изо всех сил. Тогда отец, не видя и не зная, кто
перед ним, размахнулся и ударил обидчика по голове. Епископ упал без
памяти. Тут подскочили царские копьеносцы, отцу связали руки и погнали
впереди себя. Я побежала вслед за ним. Я добежала до ворот тюрьмы, а
дальше меня не пустили. Отца затолкали в тюрьму и заперли дверь. К кому бы
я ни подбегала, все меня отталкивали, никто не хотел меня слушать, и я
осталась одна.
Мастеровые моего отца ходили куда-то просить, но их тоже не стали
слушать. Потом они взяли меня, и мы все вместе пошли к епископу просить
прощения. Я его узнала, только он лежал с завязанной головой. Он обругал
нас и велел слугам больше никого к нему не пускать. Когда мы уходили, я
все еще слышала, как ругался епископ. Он кричал, что сгноит эту скотину в
тюрьме, что не позволит возводить хулу на царя и народ, переловит всех
чонгуристов и волынщиков, и всех, кто развращает народ, и всех их посадит
в тюрьму, всех, кто распевает стихи хулителя народа — Торели.
Торели возмутился и разъярился. Но он понял, что за поступком
епископа Саба, сочиняющего свои нелепые ямбы, которые никто не хочет
слушать, скрывается больше, чем простая зависть. Если бы «Восхваление»
Торели понравилось и было принято при дворе, епископ никогда бы не
осмелился поднять на него руку. И, напротив, если епископ так смел и
решителен, значит, «Восхваление» резко осуждено, значит, царедворцы
превратно истолковали смысл содержания стихов Торели, значит, они поняли
их как направленные против царицы и народа, значит, наконец, они успели
уже восстановить против Торели саму царицу.
Но если они сумеют и народу внушить, что Торели выступил против
царицы, то на поэта обрушится и народный гнев, а этот гнев страшнее, чем
гнев царедворцев и даже самой венценосной Русудан.
Все это промелькнуло в голове Торели, однако главное теперь было не в
этом. Главное — любыми путями, любой ценой помочь несчастному Ваче,
невинно оказавшемуся в тюрьме.
Торели распорядился, чтобы девочку Цаго накормили и приласкали, а сам
вскочил на коня и помчался в Тбилиси. Сначала он заявился к начальнику
крепости. Тот принял его с большим почтением и с подобострастием, но,
выслушав просьбу насчет Ваче, только развел руками: он-де человек
маленький, ему что прикажут, он то и сделает. Никакого самовольного
поступка он совершить не может, а тем более освободить узника. Как ни
тяжело было для Торели идти ко двору, на поклон к первому министру,
просить и умолять его отпустить на волю слепого певца — иного пути не
было. Хотя первый министр, вероятно, зол на поэта не меньше, чем епископ,
потому что именно заказ первого министра поэт выполнил столь своенравно и
дерзко.
Торели повернул коня ко дворцу.
У дверей первого министра Торели долго ждал, а потом ему сказали, что
у мцигнобартухуцеси много неотложных дел и что сегодня он вряд ли
освободится. Оскорбленный Торели направился прямо на царскую половину
дворца. Навстречу ему попались только что вышедшие от царицы Варам Гагели
и, амирспасалар Аваг. Увидев Торели, они раскрыли ему объятья,
обрадовались, расцеловались, отвели в сторону, расспрашивая о семье, о
здоровье, уселись на скамью.
— Твое «Восхваление», Турман, привело меня в восторг, — говорил
Варам. — Немало слез пролил я, пока читал твою поэму. Плакал над гибелью
моего знаменитого двоюродного брата Шалвы. — У Варама и сейчас готовы были
показаться слезы.
— И я тоже внимательно прочитал «Восхваление», — поддержал Варама
амирспасалар. — Поэма твоя достойна похвалы, но многие толкуют ее так,
будто бы ты косвенно осуждаешь моего отца Иванэ Мхаргрдзели. — Аваг
смотрел на Турмана.
— Недостойно подозревать меня в этом.
— Вот и Варам свидетель, что амирспасалар тогда стал жертвой
предательства и только чудом остался в живых. Мой отец не виноват в гибели
передового отряда и вообще в Гарнисском разгроме.
— Да, это так, Турман. И я, и Мхаргрдзели, и все высокопоставленные
грузины, находившиеся в то время в ставке амирспасалара, все мы одинаково
не виноваты, но в то же время и виноваты в гибели месхов и в падении
Гарнисских укреплений. Виноваты лазутчики, засланные Джелал-эд-Дином в наш
лагерь. Они — настоящая причина нашего поражения и падения могущества
Грузинского царства.
— Я никого и не обвиняю, — пробормотал Торели. — В своей поэме я
только воспел геройство Шалвы, самопожертвование грузинских воинов, а
также призвал народ к встрече нового нашествия, а оказывается, мое
«Восхваление» толкуют по-разному, кто как вздумает. Поэтому я и пришел
сейчас во дворец.
Варам и Аваг переглянулись.
— Вы, наверно, слышали о судьбе бывшего царского художника Ваче, Ваче
Грдзелидзе, который расписывал палаты Русудан.
— О том, которому Джелал-эд-Дин выколол глаза?
— О нем самом. Так вот, с ним случилась беда. — И Торели вкратце
рассказал все, что случилось с Ваче.
Вместо сочувствия оба князя дружно расхохотались. Торели было не до
смеха в эту минуту, но друзья смеялись так заразительно, что у него
отлегло от сердца.
— Не выбил он душу из этого выскочки? — спросил Аваг, рассмеявшись.
— Душу не вышиб, но голову расшиб основательно.
— Ну так плох твой Ваче, не мог ударить как следует!
— Дело в том, что епископ сам состряпал вирши, полные чужеземных
слов. Я чуть не вывихнул язык, читая его творения.
— Я не мог прочитать его ямбы до конца, — подтвердил и Аваг, — а кто
же в состоянии их выучить и распевать?
— Твои стихи поют по всей Грузии, а его ямбы не хотят слушать даже в
церквах, когда он начинает читать их во время богослужения.
— В народе говорят так: Джелал-эд-Дин не заставил нас отказаться от
веры, а епископ Саба, вероятно, отучит нас от хождения в церковь, если не
прекратит чтения своих ямбов с амвона. — Князья снова весело рассмеялись.
— Мне не до смеха и не до ямбов епископа, — помрачнел Торели. — Они
посадили в тюрьму слепого художника, моего друга, у меня горе, и с этим я
пришел к нашей царице.
— Ну вот, беспокоить царицу такими мелочами.
— Начальник крепости сказал, что Ваче схвачен и посажен в тюрьму по
высочайшему повелению. У кого же просить отмены этого повеления, если не у
царицы. Арсений зол на меня и даже не принял.
— А вот приближается к нам мой двоюродный брат Шамше, его и
попросим, — произнес Аваг так громко, чтобы услышал и подходивший Шамше.
После взаимных неторопливых приветов и расспросов о здоровье и
благополучии друзья рассказали Шамше о столкновении епископа со слепым
певцом, и Шамше тоже искренне рассмеялся.
Шамше, не откладывая дела, написал записку и протянул ее Торели.
— Передай начальнику крепости. Я подозреваю, что в этой истории
замешан и первый министр. Но ничего не бойся. В его присутствии я так
изложу дело царице, что и она будет смеяться. А когда цари смеются, всякое
дело кончается благополучно.
Торели поблагодарил, распрощался со всеми и чуть не бегом кинулся из
дворца.
Немного погодя Торели и Ваче уже ехали по дороге на Ахалдабу.
(0 Голосов)
 Литература
Литература