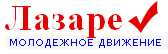–У–Ы–Р–Т–Р –Я–ѓ–Ґ–Р–ѓ
–Ш—Б–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М —Б–і–∞–ї–∞—Б—М, –Є –≤–µ—Б—М –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞. –Я–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–±–µ–і—Г. –≠—В–∞ –њ–Њ–±–µ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —В–µ–Љ —Б–ї–∞—Й–µ,
—З—В–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ,
—Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–µ –Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–µ–і–Њ–Љ, –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Њ –≤ —З–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–љ–∞—Е –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–Њ–≤–∞
–љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П.
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–Ї—А—Г—И–∞–ї–Є –Р–і–∞—А–±–∞–і–∞–≥–∞–љ, —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–±–µ–і–∞, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞
–≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–±–Є—В—Л —Г –У–∞—А–љ–Є—Б–Є — —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–±–µ–і–∞, –љ–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Њ
–µ—Й–µ –±—Л–ї –њ—Г—В—М –Ї –Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є—О —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –У—А—Г–Ј–Є–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–µ—А–µ—Й–Є–ї–∞—Б—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤
–≤–Є–і–µ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–ї–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж—Л. –Ш –≤–Њ—В –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж
—А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В–µ—А—В–∞ —Г –њ—Л–ї—М–љ—Л—Е –Є –Њ–±—А—Л–Ј–≥–∞–љ–љ—Л—Е –Ї—А–Њ–≤—М—О –љ–Њ–≥ –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞. –≠—В–Њ
–±—Л–ї–∞ —Е–Њ—В—П –±—Л –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–∞—П, —Е–Њ—В—П –±—Л –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –љ–∞–≥—А–∞–і–∞ –Ј–∞ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л
–±–µ—Б–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–µ–≥—Б—В–≤–∞.
–Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є —Б –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–Њ–Љ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –±—Л–ї —А–∞–Ј–±–Є—В, –Є –≤–Њ—В
—Г–ґ –њ—П—В—М –ї–µ—В –Њ–љ —Г–±–µ–≥–∞–µ—В –Њ—В –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Њ—А–і –Ї–∞–Ї –Ј–∞—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ј–≤–µ—А—М, –Є –љ–Є
—А–∞–Ј—Г –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –µ–Љ—Г –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ, –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї –ї–Є—Ж—Г.
–Я–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–Є–ї–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞. –Ш –≤–Њ—В –Њ–љ –Љ–µ—З–µ—В—Б—П –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–є
—Б—В—А–∞–љ—Л –≤ –і—А—Г–≥—Г—О, –љ–µ—Б—П –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ —Б–ї–µ–Ј—Л, –њ–Њ–ґ–∞—А—Л –Є –Ї—А–Њ–≤—М.
–•–∞–љ—Л –Є –∞—В–∞–±–µ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л –µ–≥–Њ –Њ—В—Ж—Г, –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є—Б—М
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ—Г –љ–∞ –њ—Г—В–Є –µ–≥–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Ю–љ–Є –Ї–ї–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї—Г
–Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–µ–і–∞, –љ–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Л—Е –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —В–µ–њ–µ—А—М —А–∞–Ј–і–Њ–±—Л—В—М
—Г –ї—Г–Ї–∞–≤—Л—Е –њ—А–Є—В–≤–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤ –љ–Є –і–µ–љ–µ–≥, –љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї.
–Ю–±—К—П—В—Л–µ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–Љ —В—А–µ–њ–µ—В–Њ–Љ, —Е–∞–љ—Л –Є –∞—В–∞–±–µ–Ї–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Є –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М
–≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–∞. –°–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–Љ—Г –Њ–љ–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є —А–∞–≤–љ—Л–Љ
—Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О —Б–∞–Љ–Њ–є —Б—Г–і—М–±–µ. –Ю–љ–Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ –ї–Є—И—М –±–Є—З –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —Г
–±–Њ–≥–∞.
–Т—Б—В—А–µ—З–∞—П —Б—В–Њ–ї—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П, –Ї–∞–Ї–Є–Љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –і–ї—П –љ–Є—Е
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ, –Њ–љ–Є –љ–µ —Б–Љ–µ–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–Љ—Г –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є,
–≤ –њ—А–Њ–≤–Є–∞–љ—В–µ, –љ–Њ, –Ј–∞—Б–ї—Л—И–∞–≤ –Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–Є —В–∞—В–∞—А, —Г–±–µ–≥–∞–ї–Є –≤ –≥–Њ—А—Л, –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є,
–њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В –±–µ–і—Л, –Є –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Б
–І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–Њ–Љ, —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –±–µ–ґ–∞—В—М, —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ–±—Л
–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П –Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М—Б—П —Б–љ–Њ–≤–∞.
–Я—А–∞–≤–і–∞, –Њ–љ–Є –Є–Ј –≤–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞ –Є –µ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤
—Б–≤–Њ–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ –≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ —Н—В–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Є–і—Г—В –љ–µ –Њ—В —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ
—Б–µ—А–і—Ж–∞ –Є —З—В–Њ –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В: —З–µ–Љ –і–∞–ї—М—И–µ –±—Г–і–µ—В –Њ—В –љ–Є—Е –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ, —В–µ–Љ
–Љ–µ–љ—М—И–µ –≥–љ–µ–≤–∞ –Њ–±—А—Г—И–Є—В—Б—П –љ–∞ –Є—Е –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ –Є –Є—Е –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П.
–Ю–љ –љ–µ —И–µ–ї –≤ –Є—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Ј–љ–∞–ї: –љ–Є–Ї–∞–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –≤
–Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–∞ –љ–µ —Г—Б—В–Њ–Є—В. –Э—Г–ґ–љ–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П –≤—Б–µ–Љ,
—Г–Ї—А–µ–њ–Є—В—М—Б—П –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–Є—В—М –і–Њ—А–Њ–≥—Г –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є
–ї–∞–≤–Є–љ–µ.
–Э–Њ –љ–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л—Е —А–∞–љ—М—И–µ –µ–≥–Њ
–Њ—В—Ж—Г, –Ї –µ–і–Є–љ—Л–Љ –Є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–∞—В–љ—Л–Љ —В—А—Г–і–∞–Љ.
–Я—П—В—М –ї–µ—В –±–µ–ґ–∞–ї –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –Њ—В –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤, –Є –љ–Є —А–∞–Ј—Г –Ј–∞ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –Њ–љ
—Е–Њ—В—П –±—Л –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ—Г –Њ—Б—В—А–Њ—В—Л –Є –±–ї–µ—Б–Ї–∞ —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Б–Ї–Њ–є
—Б–∞–±–ї–Є. –Ш –≤–Њ—В –≤–Ј—П—В –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є — —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞ –У—А—Г–Ј–Є–Є, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥—Г—З–µ–≥–Њ
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –≠—В–Њ –њ–µ—А–≤–∞—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ–Њ–±–µ–і–∞ –Ј–∞ –≤—Б–µ –њ—П—В—М –ї–µ—В. –Ю–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –љ–µ
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –≤—Б–µ–Љ —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ –Є—Б–ї–∞–Љ–∞, —З—В–Њ —Г –љ–Є—Е –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –µ—Б—В—М –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї
–Є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М –≤ –ї–Є—Ж–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞ —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А–Њ–љ–∞, –љ–Њ –Є –≤–љ—Г—И–Є—В—М
–І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ—Г –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б—В—А–∞—Е, —В–Њ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ–Њ–Љ—Г –≤—А–∞–≥—Г, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ,
–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –µ—Й–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б–Є–ї—Л –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М —А–∞—В–љ—Л–µ —З—Г–і–µ—Б–∞.
–І–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –њ–Њ–і—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї—Г—О –Ї–∞–Ј–љ—Г, –≥–Њ–љ—Ж—Л
—А–∞–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–µ—Б—В—М –Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і–µ, –∞ —Б–∞–Љ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М
–≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ –≤–Ј–Њ—А–Њ–Љ –≤–Є–і–µ–ї —Б—В–∞–≤–Ї—Г –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–∞ –Є —В–Њ, –Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г
–і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В –Њ –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–Є –У—А—Г–Ј–Є–Є, –Є –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –≤ –ї–Є—Ж–µ, –Є –Ї–∞–Ї —Б–Љ—П—В–µ–љ–Є–µ
–Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –і—Г—И—Г —Н—В–Њ–≥–Њ —А—Л–ґ–µ–±–Њ—А–Њ–і–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї—В–Њ–Ї–Њ–ґ–µ–≥–Њ –Є–і–Њ–ї–∞. –Ю–љ –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Љ—Л –њ—А–Є
–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ –Є–Ј–і—Л—Е–∞–љ–Є–Є, –∞ –Љ—Л —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Є–ї–Є –Є –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є–ї–Є —Б–Є–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –љ–∞
–≤—Б–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ! –Ь—Л –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є–ї–Є –У—А—Г–Ј–Є—О, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–±–ї–Њ–Љ–∞–ї–Є
–Ј—Г–±—Л –ї—Г—З—И–Є–µ –≤–Њ–Є–љ—Л –І–Є–љ–≥–Є—Б–∞ — –Ф–ґ–µ–±–µ –Є –°—Г–±—Г–і–∞–є. –≠—В–Њ –≤–µ–і—М –Њ—В –≥—А–∞–љ–Є—Ж –У—А—Г–Ј–Є–Є –Њ–љ–Є
–Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є, –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–≤ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—П.
–°—Г–ї—В–∞–љ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –і—Г—Е–∞. –Ш–Ј-–Ј–∞ –Ї—А–∞—П
–Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤–Њ–є –≥–Њ—А—Л –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞–ї–Є—В–Њ–є –Ї—А–Њ–≤—М—О, –і–Є—Б–Ї
—Б–Њ–ї–љ—Ж–∞. –Я–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М, –Њ–љ —В–µ—А—П–ї —Б–≤–Њ—О –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—В—Г, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Є–Ј –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–≥–Њ –≤
–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є.
«–Ґ–∞–Ї –Є –µ—Б—В—М. –Ъ—А–Њ–≤—М, –њ—А–Њ–ї–Є—В–∞—П –≤ —Н—В–Є—Е –±–Њ—П—Е, –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –і–ї—П –Љ–µ–љ—П
–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, — –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї —Б—Г–ї—В–∞–љ. — –≠—В–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ — –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї–µ—Б–Њ —Б—Г–і—М–±—Л
—Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ—В –Є –Љ–Њ—П —В–Њ—З–Ї–∞ –њ–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Ї–≤–µ—А—Е—Г. –Т–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ
–Љ–Њ–µ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л, –Љ–Њ–Є—Е —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤, –Љ–Њ–µ–є —Б—Г–і—М–±—Л».
–°—Г–ї—В–∞–љ –Њ–±–ї–∞—З–Є–ї—Б—П –≤ —Б–∞–Љ—Л–µ –ї—Г—З—И–Є–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л, –љ–∞–і–µ–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П —Б–∞–Љ—Л–µ
–і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–љ–Є. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–∞ –Њ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б–Њ
—Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, —Е–≤–∞–ї–Є–ї –Њ—В–ї–Є—З–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –±–Њ—О. –Т—Б–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї
–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ —Б—Г–ї—В–∞–љ, –Є —В–µ–њ–µ—А—М –і–Є–≤–Є–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є—О. –Т—Б–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ
—Б—Г–ї—В–∞–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–ї—Л–±–∞–µ—В—Б—П –Ї—А–∞–µ—И–Ї–Њ–Љ –≥—Г–±, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Г–Љ–Є—А–∞—О—В —Б–Њ —Б–Љ–µ—Е—Г. –Э–Њ –≤
—Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М, –Ї —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л—Е, —Б—Г–ї—В–∞–љ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –Є —Б–Љ–µ—П–ї—Б—П, –Є
—Г–ї—Л–±–∞–ї—Б—П –≤—Б–µ–Љ, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–µ–±—П –≤–µ—Б–µ–ї—М–µ –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М.
–Т—Л—Е–Њ–і—П –Є–Ј-–Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–∞, –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–њ–Њ–ї–≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≤–Є–Ј–Є—А—О
–®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї—Г:
— –І—В–Њ-—В–Њ –Љ–љ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ—З–µ–љ—М –≤–µ—Б–µ–ї–Њ. –Ъ–∞–Ї –±—Л –љ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Ї–∞–Ї–Њ–є
–±–µ–і—Л.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л –љ–∞ –Ї—Г–њ–Њ–ї
–°–Є–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –°—Г–ї—В–∞–љ –µ—Й–µ –≤—З–µ—А–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б—И–Є–±–Є—В—М
—Б –љ–µ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В, –∞ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —В—А–Њ–љ. –Ю—В—В—Г–і–∞, —Б –≤—Л—Б–Њ—В—Л
—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–≤—П—В—Л–љ–Є, —Б—Г–ї—В–∞–љ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П —Б—Г–і–Є—В—М –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –≥—А—Г–Ј–Є–љ.
–Я–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –Є —Г–Ј–µ–љ—М–Ї–Є–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –њ—А–Њ–є—В–Є, –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї —З–µ—А–µ–Ј
–Ъ—Г—А—Г. –Э–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Є–Ї–Њ–љ—Г –±–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –°–Є–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ
—Е—А–∞–Љ–∞. –Ъ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї—Г —Б–Њ–≥–љ–∞–ї–Є —В–±–Є–ї–Є—Б—Ж–µ–≤: —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, —О–љ–Њ—И–µ–є –Є –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї,
–Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –і–µ—В–µ–є. –Ґ–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ –њ—А–Њ–є–і–µ—В –њ–Њ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї—Г –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В –љ–∞
–Є–Ї–Њ–љ—Г –±–Њ–ґ—М–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є, —Б—Г–ї—В–∞–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б—З–Є—В–∞—В—М –Њ—В—А–µ–Ї—И–Є–Љ—Б—П –Њ—В —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є
–≤–µ—А—Л, –Њ—З–Є—Б—В–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –Є –њ–µ—А–µ—И–µ–і—И–Є–Љ –≤ —А—П–і—Л –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е. –Ґ–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—В
—В–Њ–њ—В–∞—В—М —Б–≤—П—В—Л–љ—О, —Б—Г–ї—В–∞–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —А—Г–±–Є—В—М –Є —Б–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—В—М —Б –Љ–Њ—Б—В–∞ –≤ –Ъ—Г—А—Г.
–Я–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –Њ—В –Ї—А–∞—П –і–Њ –Ї—А–∞—П, —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –і—Г—И–µ—А–∞–Ј–і–Є—А–∞—О—Й–Є–µ –Ї—А–Є–Ї–Є –Є
–≤–Њ–њ–ї–Є: —В–±–Є–ї–Є—Б—Ж–µ–≤ —Б–Є–ї–Њ–є —Б–≥–Њ–љ—П–ї–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Ъ—Г—А—Л — –љ–∞ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ, –љ–∞
—Б—В—А–∞—И–љ—Л–є —Б—Г–і.
–Т—Л–є–і—П –Є–Ј —И–∞—В—А–∞, —Б—Г–ї—В–∞–љ –Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Ъ—Г—А—Г. –Ю–љ–∞ —В–µ–Ї–ї–∞, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М,
–ї–µ–љ–Є–≤–Њ, –µ–є –љ–µ–Ї—Г–і–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–µ—И–Є—В—М, –љ–µ–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≥–Њ–љ—П—В—М, –љ–µ –Њ—В –Ї–Њ–≥–Њ —Г–±–µ–≥–∞—В—М,
–љ–µ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–љ–Є—В—М –Є–ї–Є –Љ–Є–ї–Њ–≤–∞—В—М. –І—В–Њ –Њ–љ–∞ –≤–Є–і–µ–ї–∞ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –≤–µ–Ї–∞? –Ъ–∞–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є
–≥–ї—П–і–µ–ї–Є –≤ –љ–µ–µ? –Ъ–∞–Ї–∞—П –Ї—А–Њ–≤—М –ї–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –µ–µ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е, –Њ—В–±–ї–µ—Б–Ї–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–≤
—Г–љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ–ї–љ–∞—Е? –Т–Њ—В –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–ґ–∞—А—Л, –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞–њ–µ–Ї—И–∞—П—Б—П –Ї—А–Њ–≤—М
–љ–∞ –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ—П—Е, –∞ –Њ–љ–∞ –≤—Б–µ —В–µ—З–µ—В, –Ї–∞–Ї —В–µ–Ї–ї–∞ —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П –љ–∞–Ј–∞–і, –Ї–∞–Ї
–±—Г–і–µ—В —В–µ—З—М —З–µ—А–µ–Ј —В—Л—Б—П—З—Г –ї–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤ –Є
—Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –љ–∞ –µ–µ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е, –љ–Њ –Є —Б–∞–Љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –љ–Є—Е —Г–ї–µ—В—Г—З–Є—В—Б—П.
–°—Г–ї—В–∞–љ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Ъ—Г—А—Г. –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –Њ–љ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ
—Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –њ–Њ–і–≤–µ–ї–Є –Њ—Б–µ–і–ї–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, –≤–Ј–љ—Г–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–љ–µ–і–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—П. –Э–µ
–Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—П—Б—М, –Њ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї:
— –Э–µ —Н—В–Њ–≥–Њ... –Ю—Б–µ–і–ї–∞–є—В–µ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ, –Љ–Њ–µ–≥–Њ.
–Я–Њ–љ—П–≤, —З—В–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї—Б—П –Є –љ–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ —Б–Њ–є–і–µ—В —Б —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, –µ–Љ—Г
–њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Б—В—Г–ї, –Є –Њ–љ —Б–µ–ї.
–°—Г–ї—В–∞–љ –≥–ї—П–і–µ–ї –љ–∞ –Ъ—Г—А—Г, –Є –≤—Б–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –≥–ї—П–і–Є—В –љ–∞ –Ъ—Г—А—Г, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ
–љ–µ –Љ–Њ–≥ –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ —Н—В—Г –Љ–Є–љ—Г—В—Г —А–∞—Б–њ–ї–µ—Б–Ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Г –љ–Њ–≥ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –≤–Њ–ї–љ—Л
–њ–µ–љ—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ш–љ–і–∞, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–є —А–µ–Ї–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–љ–і—Г—Б—В–∞–љ–∞.
–Я—П—В—М –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л—Е –±–µ—А–µ–≥–∞—Е —Н—В–Њ–є —А–µ–Ї–Є.
–С—Л–ї–Є –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Б—В—Л—З–Ї–Є —Б –Њ—В—А—П–і–∞–Љ–Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –±–Њ–ї–µ–µ
—Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є—В—Л—Б—П—З–љ—Л–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –ї—О–±–Є–Љ–µ—Ж
–І–Є–љ–≥–Є—Б–∞ –•—Г—В—Г–ї—Г. –Э–Њ —В–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–µ–Ј–ї–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г, —В–∞–Ї –Ї–∞—А–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ —Б—Г–і—М–±–∞, —З—В–Њ
–і–∞–ґ–µ –њ–Њ–±–µ–і–∞ –љ–µ –њ–Њ—И–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –і–µ–ї–Є–ї–Є –і–Њ–±—Л—З—Г, –і–≤–∞ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞, –≠–Љ–Є–љ –Є –Р–≥—А–∞–Ї, –њ–Њ—Б—Б–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј-–Ј–∞ —З–Є—Б—В–Њ–Ї—А–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–Ї–Њ–љ—П. –≠–Љ–Є–љ —В–∞–Ї —А–∞–Ј–Њ—И–µ–ї—Б—П –≤ —Б–њ–Њ—А–µ, —З—В–Њ —Е–ї–µ—Б—В–љ—Г–ї –Ї–љ—Г—В–Њ–Љ –њ–Њ –ї–Є—Ж—Г –Р–≥—А–∞–Ї–∞, –Є
–Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –Р–≥—А–∞–Ї –≤ —В—Г –ґ–µ –љ–Њ—З—М –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –ї–∞–≥–µ—А—М —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ
—Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ.
–≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ–Њ–ї–±–µ–і—Л, –љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А –Р–≥—А–∞–Ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –і—Г—А–љ—Л–Љ. –Т—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–Є–Љ –Є
–і—А—Г–≥–Є–µ —Е–∞–љ—Л –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б–љ—П–ї–Є—Б—М —Б –Љ–µ—Б—В–∞ –Є —А–∞–Ј—К–µ—Е–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л.
–°—Г–ї—В–∞–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —Б –≥–Њ—А—Б—В–Ї–Њ–є —В—Г—А–Њ–Ї –Є —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤. –Ю —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є
–І–Є–љ–≥–Є—Б–∞ –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–±—Л—В—М. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, –µ—Б–ї–Є —Г—Б–њ–µ–µ—И—М —Г–љ–µ—Б—В–Є –љ–Њ–≥–Є
–Ї—Г–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В —Н—В–Є—Е –Љ–µ—Б—В. –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –Љ–µ—В–љ—Г–ї—Б—П —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ї –У–∞–Ј–љ–µ,
–∞ –Њ—В—В—Г–і–∞ –љ–∞ –Ш–љ–і.
–£–Ј–љ–∞–≤ –Њ –љ–µ—Г–і–∞—З–∞—Е –•—Г—В—Г–ї—Г –Є –Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –±–µ–≥—Б—В–≤–µ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞, –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ
—А–∞—Б—Б–≤–Є—А–µ–њ–µ–ї –Є –њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–≥–Њ–љ—О. –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ —Б–∞–Љ —Б–Ї–∞–Ї–∞–ї –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞,
—В–∞–Ї–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞. –Я—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ
–Њ—В–і—Л—Е–∞–ї–Є, –љ–µ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –њ–Є—Й—Г, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Љ—П—Б–Њ –µ–ї–Є
–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ї—Г. –•–∞–љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж—Л –њ–µ—А–µ–є–і—Г—В –Ш–љ–і, —В–Њ –Є—Е —Г–ґ–µ –љ–µ
–≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—И—М. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ—О—В –њ–µ—А–µ–є—В–Є, —В–Њ –Є–Љ –љ–µ–Ї—Г–і–∞
–і–µ—В—М—Б—П.
–Ш–љ–і —И–Є—А–Њ–Ї, –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –Њ–љ —А–∞–Ј–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Љ–Њ—А—О. –Я—А–Є–ґ–∞—В—М –Ї –µ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ
—Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤ –Є –Є–Ј—А—Г–±–Є—В—М –≤—Б–µ—Е –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —З—В–Њ–±—Л –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ
–±—Л–ї–Њ –Њ –љ–Є—Е –і—Г–Љ–∞—В—М, — —Н—В–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Љ–∞–љ–Є–ї–∞ –Є –≥–љ–∞–ї–∞ —Е–∞–љ–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і.
–•–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж—Л —Г–ґ–µ —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –њ–ї–Њ—В—Л –Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є –ї–Њ–і–Ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л –љ–∞—Б—В–Є–≥–ї–Є
–∞—А—М–µ—А–≥–∞—А–і –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—В–∞–ї–Є –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–≤–µ—Ж.
–Ъ–Њ–µ-–Ї–∞–Ї —Г—Б–њ–µ–ї–Є —Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М –Њ–і–Є–љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. –Я–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –і–µ—В–µ–є –Є
–ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Э–Њ –±–µ—И–µ–љ—Л–є –Ш–љ–і —А–∞–Ј–±–Є–ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Њ —Б–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л–є –±–µ—А–µ–≥, –Є –ї—О–і–Є —Б—В–∞–ї–Є
—В–Њ–љ—Г—В—М. –Я–Њ—Б–ї–∞–ї–Є –±—Л–ї–Њ –ї–Њ–і–Ї–Є –Ї –љ–Є–Љ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, –љ–Њ –Є –ї–Њ–і–Ї–Є –Ї–Є–і–∞–ї–Њ, –Ї–∞–Ї
—Б–Ї–Њ—А–ї—Г–њ—Г, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–Ї—А—Л–µ –ґ–∞–ї–Ї–Є–µ —Й–µ–њ–Ї–Є.
–Я–Њ–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–Є–ї–Є—Б—М —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Є–Љ, –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л –≤—А–µ–Ј–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –љ–Њ–ґ, –≤–і–Њ–ї—М —Б–∞–Љ–Њ–є
–Ї—А–Њ–Љ–Ї–Є –≤–Њ–і—Л –Є –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї–Є –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞ –Њ—В –Ш–љ–і–∞. –Ю—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ –і–∞
—Б–∞–±–ї–Є, –љ–∞ –љ–Є—Е –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П —Б—Г–ї—В–∞–љ. –Ю–љ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ
–±–µ–≥—Б—В–≤–µ –Є –њ—А–Є–љ—П–ї –±–Њ–є. –Х–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В—В–µ—Б–љ–Є—В—М –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ –Њ—В –≤–Њ–і—Л, –Є
–Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ—Б—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї: –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л –Њ–±–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞
–њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–≥–Њ–Љ, –Є—Е –ї–Є–љ–Є—П –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ –ї—Г–Ї, —В–µ—В–Є–≤–Њ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –±–µ—А–µ–≥ –Ш–љ–і–∞.
–Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ—И–ї–∞ –љ–Њ—З—М. –Э–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ –Њ—В–і–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј —Б–Љ–µ—И–∞—В—М —Б –Ј–µ–Љ–ї–µ–є
–≤—Б–µ, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ–ї—Г–Ї–Њ–ї—М—Ж–µ. –Э–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Њ–љ –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є–ї —Г–±–Є–≤–∞—В—М –Є –і–∞–ґ–µ —А–∞–љ–Є—В—М
—Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞.
–°–µ—З–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –Ї—А—Л–ї–µ, –Є —З–µ—А–µ–Ј —З–∞—Б –µ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ. –Х—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј
—З–∞—Б –±—Л–ї–∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–∞ –ї–µ–≤–∞—П —З–∞—Б—В—М —Б—Г–ї—В–∞–љ–Њ–≤–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –£ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞
–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–µ–Љ–Є—Б–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Э–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Н—В–Њ–є –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ–Њ–є
–Ї—Г—З–Ї–Є, –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –±—А–Њ—Б–∞–ї—Б—П –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –њ—А–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П
—Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г –≤—А–∞–≥–Њ–≤. –Ґ–∞–Љ, –≥–і–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –Ј–љ–∞–Љ—П –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞,
–љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Љ—П—В–µ–љ–Є–µ, –±–µ—И–µ–љ–∞—П —А—Г–±–Ї–∞. –Ю—Б—В–µ—А–≤–µ–љ–µ–ї–Њ–є, –Њ—В—З–∞—П–≤—И–µ–є—Б—П –≥–Њ—А—Б—В–Ї–µ
—Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—А—Г–±–Є—В—М—Б—П –Ї–ї–Є–љ–Њ–Љ –≤ –њ–ї–Њ—В–љ—Г—О —Б—В–µ–љ—Г, –љ–Њ —Б—В–µ–љ–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤
–Њ—В—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–ї–∞ —Е—А–∞–±—А–µ—Ж–Њ–≤ –љ–∞–Ј–∞–і, –∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —В—А—Г–њ—Л.
–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ—П—П –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–∞, –≤–Њ–Є–љ—Л –љ–µ —Б–Љ–µ–ї–Є –њ–Њ–і–љ—П—В—М –Љ–µ—З –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ
—Б—Г–ї—В–∞–љ–∞, –љ–µ —Б–Љ–µ–ї–Є –љ–∞–≤–µ—Б—В–Є –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б—В—А–µ–ї—Л. –Я–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М –±–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О,
—Б—Г–ї—В–∞–љ —А—Г–±–Є–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ –Є –љ–∞–ї–µ–≤–Њ, —А—Г–±–Є–ї —Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–њ—М—П–љ–µ–≤ –Њ—В
–Ї—А–Њ–≤–Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –Є–≥—А–∞ —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О, –∞ –њ–Њ—В–µ—И–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В—П–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ —Б–Є–ї–µ.
–Ґ–∞–Ї –Ї—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П –Њ–љ –≤ –≤–Њ–і–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–µ, –≤ –Ј—Л–±–ї–µ–Љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–µ –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А,
–њ–Њ–Ї–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –љ–µ –≤—Б—В–∞–ї–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —В–Њ—З–Ї–µ. –£—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М –љ–∞—З–∞–ї–∞ –±—А–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ.
–Ф–∞ –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —Н—В—Г –Є–≥—А—Г –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ. –Ъ–Њ–ї—М—Ж–Њ –≤—Б–µ —Б–ґ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М
–Є —Б–ґ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М. –Ю–љ —А–∞—Б—Б–µ–Ї–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–є —Б–∞–±–ї–µ–є –≤–Њ–ї–љ—Л –≤—А–∞–≥–Њ–≤, –љ–Њ –Њ–љ–Є —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М
–≤ –Њ–і–љ–Њ, –Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–ї–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В—М
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞, –Ј–∞–ї–Є–≤ –µ–≥–Њ —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є.
–°—Г–ї—В–∞–љ –Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –њ–Њ—А–µ–і–µ–≤—И–Є–µ —А—П–і—Л —Б–≤–Њ–Є—Е —Е—А–∞–±—А–µ—Ж–Њ–≤, –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ
–њ–µ—А–µ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ—А–µ–±—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Б–µ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –њ—А–Є–≤—П–Ј–Є —Г
—Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞, –Ј–∞–Ї–Є–љ—Г–ї –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ—Г —Й–Є—В, –±—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї –Ї–Њ–љ—П –Љ–Њ—А–і–Њ–є
–Ї —А–µ–Ї–µ.
–°—Л–љ–Њ–≤—М—П –І–Є–љ–≥–Є—Б–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –њ–Њ–Є–Љ–Ї–Њ–є —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞, –њ–Њ–љ—П–ї–Є, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ
–±—А–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤ –≤–Њ–ї–љ—Г, —В–Њ –ґ–Є–≤–Њ–є –ї–Є, –Љ–µ—А—В–≤—Л–є –ї–Є –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ —Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ–µ—В –Њ—В –љ–Є—Е, –Є
–љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М –Є–Љ —В–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –љ–Є –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ, –љ–Є –Љ–µ—А—В–≤–Њ–≥–Њ. –Ю–љ–Є –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –Ї –Њ—В—Ж—Г.
— –Я—А–Є–Ї–∞–ґ–Є —Б—В—А–µ–ї—П—В—М, — –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї–Є —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–∞. — –†–∞–Ј—А–µ—И–Є –Є–ї–Є
—А–∞–љ–Є—В—М, –Є–ї–Є —Г–±–Є—В—М, — —Г–є–і–µ—В.
–Э–Њ –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ
—Г–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ —Н—В–Њ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ: –±–µ–ї—Л–є, —Б–≤–µ—А–Ї–∞—О—Й–Є–є –љ–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –ґ–µ—А–µ–±–µ—Ж, —Б–Ї–∞—З—Г—Й–Є–є –Ї
–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–µ—Б–љ–Њ–є —Б–Ї–∞–ї–µ –љ–∞–і –Ш–љ–і–Њ–Љ. –Э–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤—Л–Љ –ґ–µ—Б—В–Њ–Љ —Е–∞–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї
–Ј–∞–Љ–Њ–ї—З–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ —Й–µ–љ–Ї–∞–Љ; –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є —В–µ—Е –Ј–∞–≤–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ.
–С–µ–ї—Л–є –Ї–Њ–љ—М –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї, –Є –њ–Њ–ї—Л —Б—Г–ї—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л —А–∞–Ј–і—Г–ї–Њ –≤–µ—В—А–Њ–Љ. –Ф–Њ–ї–≥–Њ
–ї–µ—В–µ–ї –±–µ–ї—Л–є –Ї–Њ–љ—М, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –±—А—Л–Ј–љ—Г–ї–∞ –≤–≤–µ—А—Е –≤–Њ–і–∞ –Є –≤—Б–µ –љ–µ —Б–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤
–±—Г—А–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–љ–∞—Е. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ –ґ–µ—А–µ–±–µ—Ж –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–ї—Л–≤–µ—В –Ї
–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г. –Ъ–∞–Ї –љ–Є —И–Є—А–Њ–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —А–µ–Ї–∞, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М,
—З—В–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥, –њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї –Ї–Њ–љ—П –≤ –ї–Њ–±, –≤—Л–ґ–∞–ї –Њ–і–µ–ґ–і—Г –Є, –њ–Њ–і–љ—П–≤
–Ї—Г–ї–∞–Ї, –њ–Њ–≥—А–Њ–Ј–Є–ї—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–∞. –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ –Њ–±—А–Њ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ —Й–µ–љ–Ї–∞–Љ:
— –Т–Њ—В –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Є–Љ–µ—В—М –Њ—В–µ—Ж.
–Ф–∞, –≤ –±–Њ—О –њ–Њ–і –Ш–љ–і–Њ–Љ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –±—Л–ї —А–∞–Ј–±–Є—В. –Э–Њ –±—Л–≤–∞—О—В –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–Њ—П—В –Є–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л. –Т–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б—Г–ї—В–∞–љ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ
–І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ—В–≤–∞–≥–Њ–є –Є –ї–Њ–≤–Ї–Њ—Б—В—М—О, –њ–µ—А–µ—В—П–љ—Г–ї–Њ –љ–∞ –≤–µ—Б–∞—Е –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л—И
–≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ, –≤—Л—А–Њ—Б—И–Є–є –Є –њ–Њ—Б–µ–і–µ–≤—И–Є–є –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї
—Ж–µ–љ—Г –Њ—В–≤–∞–≥–µ, –µ—Б–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–≤–∞–≥–∞ –µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞. –Ю–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–Ї—А—Л—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ
–≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–Њ–ґ–µ –ї–Њ–≤–Ї–Є–Љ –Є —В–Њ–ґ–µ
–Њ—В–≤–∞–ґ–љ—Л–Љ —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ.
–Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ, –њ–Њ–Ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–Є–љ
–і–µ—А–ґ–Є—В –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —Б–∞–±–ї—О, –µ–≥–Њ –Њ–±–Є–і—З–Є–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–њ–∞—В—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ
—Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї –љ–µ—Г—В–Њ–Љ–Є–Љ–Њ–µ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞. –Я—П—В—М –ї–µ—В –Њ–љ —А—Л—Б–Ї–∞–ї –Ј–∞ –љ–Є–Љ,
–љ–µ –і–∞–≤–∞—П –њ–Њ–Ї–Њ—П –љ–Є –±–µ–≥–ї–µ—Ж—Г, –љ–Є —Б–µ–±–µ.
–°—Г–ї—В–∞–љ —З—Г–і–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ш–љ–і–∞ –Є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –ґ–Є–≤. –Э–Њ –Њ–љ
–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ, –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П — –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ—А–µ–±—Ж–∞. –Х—Б–ї–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞—В—М,
—В–Њ –≤—Б–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞—В—М —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞. –Ф–∞–ґ–µ —Б–≤–Њ–є –≥–∞—А–µ–Љ —Б —О–љ—Л–Љ–Є –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–є—И–Є–Љ–Є
–љ–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤–µ—Б—М –Њ–±–Њ–Ј —Б –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є, —Б –і–µ—В—М–Љ–Є –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є –Ј–∞–њ–∞—Б–∞–Љ–Є
—Б—Г–ї—В–∞–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Г—В–Њ–њ–Є—В—М –≤ –Ш–љ–і–µ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤—А–∞–≥—Г.
–Ю–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–Љ –Є –љ–Є—Й–Є–Љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Б—Г–ї—В–∞–љ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є –њ—Г—В—М –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є
–ґ–Є–Ј–љ–Є. –Э–Њ –ґ–µ—А–µ–±–µ—Ж –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–њ–∞—Б –ґ–Є–Ј–љ—М —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞, –Њ–љ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї
–µ–Љ—Г —Г–і–∞—З—Г –Ј–∞ —Г–і–∞—З–µ–є. –°—Г–ї—В–∞–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї –Њ–±—А–∞—Б—В–∞—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М
–і–Њ–±—Л—З–∞, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —О–љ—Л–µ –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж—Л, –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–ї–∞—Б—В—М.
–Ь–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –≤ –±–µ–≥—Б—В–≤–µ, –≤ —Б–Њ–±–Є—А–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–є—Б–Ї, –≤
—Б—В—Л—З–Ї–∞—Е —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ. –°—Г–ї—В–∞–љ –Є –µ—Б—В –Є —Б–њ–Є—В –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ, –љ–Њ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ. –Э–Є —А–∞–Ј—Г
–Њ–љ –љ–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ—Б–µ–і–ї–∞—В—М —Б–µ–±–µ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ—А–µ–±—Ж–∞. –Ю—Б–Њ–±—Л–µ –Ї–Њ–љ—О—Е–Є —Е–Њ–ї–Є–ї–Є
–ґ–µ—А–µ–±—Ж–∞, –≤—Б—О–і—Г –µ–≥–Њ –≤–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞ —Б—Г–ї—В–∞–љ–Њ–Љ, –љ–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї —Б–∞–і–Є—В—М—Б—П –љ–∞
—Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—П. –Ю–љ –і–∞–ї —Б–µ–±–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, —З—В–Њ —Б—П–і–µ—В –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—П—В—М
–ї–µ—В –Љ–µ—А–µ—Й–Є—В—Б—П –µ–Љ—Г –Є –≤ –Љ–µ—З—В–∞—Е –Є –≤–Њ —Б–љ–µ, –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М, —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г
—Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –≤—Б–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞.
–Ъ–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П –Ї–Њ–ї–µ—Б–Њ —Б—Г–і—М–±—Л –Є —Г–ї—Л–±–љ–µ—В—Б—П —Г–і–∞—З–∞, —Б–Њ–є–і—Г—В—Б—П –Њ–љ–Є
—Б –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–Њ–Љ –≤ —А–∞–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О, –Є –Њ—В–њ–ї–∞—В–Є—В –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –Ј–∞ –≤—Б–µ –Њ–±–Є–і—Л, –Ј–∞ –≤—Б–µ
–Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–Є—П, –Ј–∞ –≤—Б—О –Ї—А–Њ–≤—М.
...–Ш —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ –≤—К–µ–і–µ—В –Њ–љ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞, –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є
–£—А–≥–µ–љ—З.
–Э–Њ –Ј–∞–њ–∞–Ј–і—Л–≤–∞–µ—В –ґ–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є –і–µ–љ—М. –Т—Б–µ –љ–Њ–≤—Л–µ –Є –љ–Њ–≤—Л–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –•–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ
—Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞—О—В –њ–Њ–і –Љ–µ—З –І–Є–љ–≥–Є—Б–∞, —А–∞–Ј–Љ–µ—В–∞—О—В—Б—П –њ–µ–њ–ї–Њ–Љ –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П
–Ї–≤–µ—А—Е—Г —Б—В–Њ–ї–±–∞–Љ–Є –і—Л–Љ–∞, —А–∞—Б—В–Њ—З–∞—О—В—Б—П –њ–Њ –њ–µ—Б—З–Є–љ–Ї–µ –њ–Њ –±–µ—Б–Ї—А–∞–є–љ–Є–Љ —Б—В–µ–њ—П–Љ.
–°—З–∞—Б—В—М–µ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –≤—А–∞–≥–∞. –Ю–љ–Њ –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г
–Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Є–Ї—Г — —А—Л–ґ–µ–±–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ—Г –Є–і–Њ–ї—Г –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ—Г. –Э–Њ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –љ–µ –±—Л–ї
—Б–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ. –Ю–љ –≤–µ—А–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї—А–∞—П –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞ –≤—Л–Ї–∞—В–Є—В—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є
–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –і–Є—Б–Ї, –Є —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ–і—Л, –µ–≥–Њ —Г–і–∞—З–Є.
–Э–∞–і –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є —И–∞—А, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ
–Є–Ј –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–≥–Њ –≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є. –£—Б–ї—Г–ґ–ї–Є–≤—Л–µ –њ—А–Њ—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї–Є, –і–µ—А–≤–Є—И–Є, –≥–∞–і–∞–ї–Ї–Є –Є —И–µ–є—Е–Є
–Њ–і–Є–љ –њ–µ—А–µ–і –і—А—Г–≥–Є–Љ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ –њ—А–µ–і–≤–µ—Й–∞–µ—В –љ–µ—Б–ї—Л—Е–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л
–і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г.
–Ф–∞, –і—Г–Љ–∞–ї –Є —Б–∞–Љ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ, –Ј–і–µ—Б—М, –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П –Љ–Њ–Є –Ј–ї–Њ–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П. –ѓ –њ—А–Њ—И–µ–ї –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –і–Њ—А–Њ–≥—Г
—Б–Ї–Є—В–∞–љ–Є–є –Є —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–є, –Њ—В–љ—Л–љ–µ –њ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—Г—В—М –њ–Њ–±–µ–і—Л –Є —Б–ї–∞–≤—Л. –Ш
—П –љ–∞—З–љ—Г —Н—В–Њ—В –њ—Г—В—М –љ–∞ —В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–Љ –Љ–Њ–µ–≥–Њ
–≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —П –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–ї –±—Г—А–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л –Ш–љ–і–∞.
–Э–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ–µ —А–ґ–∞–љ—М–µ –Ї–Њ–љ—П –≤—Л–≤–µ–ї–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –Є–Ј –і–Њ–ї–≥–Њ–є –Ј–∞–і—Г–Љ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є. –Ф–≤–∞
–Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—О—Е–∞ –µ–і–≤–∞ —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –Ј–∞—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≥–ї–∞–і–Ї–Њ–≥–Њ,
–ї–Њ—Б–љ—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –ґ–µ—А–µ–±—Ж–∞. –Ю—В–≤—Л–Ї—И–Є–є –Њ—В —Б–µ–і–ї–∞, –Њ–љ –Є–≥—А–∞–ї –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї,
—А–∞–Ј–і—Г–≤–∞–ї –љ–Њ–Ј–і—А–Є, –њ—А—П–і–∞–ї —Г—И–∞–Љ–Є –Є –≤—Б—В—А—П—Е–Є–≤–∞–ї –±–µ–ї–Њ—Б–љ–µ–ґ–љ–Њ–є –≥—А–Є–≤–Њ–є. –°—В—А–µ–Љ—П–љ–љ—Л–є
–њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї —Б—В—А–µ–Љ—П, –Є —Б—Г–ї—В–∞–љ –ї–µ–≥–Ї–Њ –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –љ–∞ –Ї–Њ–љ—П. –Ъ–Њ–љ—М —В—А–Њ–љ—Г–ї—Б—П —Б –Љ–µ—Б—В–∞, –Є
–≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–Є–Љ –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М —А—П–і—Л –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Є –ї–µ—Б –Ї–Њ–њ–Є–є.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–љ—Г—В—А–Є –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —А–µ–Ј–љ—П –Љ–µ–ґ–і—Г –µ–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є
–Љ—П—В–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –≤–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж—Л –Є –С–Њ—Ж–Њ
–Ф–ґ–∞–Ї–µ–ї–Є –њ–Њ–≤–µ–ї –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї —З–µ—А–µ–Ј –Ъ—Г—А—Г –≤ –Ш—Б–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М,
–Т–∞—З–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б—А–µ–і–Є —Н—В–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –Я–Њ–і –љ–Є–Љ —Г–±–Є–ї–Њ –Ї–Њ–љ—П, –Є –Њ–љ, –њ–µ—И–Є–є, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥,
–Њ—В–±–Є–≤–∞–ї—Б—П –Њ—В –љ–∞—Б–µ–і–∞–≤—И–Є—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤. –Я–Њ—В–Њ–Љ –µ–Љ—Г –њ—А–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–ї–Є –њ–ї–µ—З–Њ, —А—Г–Ї–∞ —Б—А–∞–Ј—Г
–Њ–љ–µ–Љ–µ–ї–∞, –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Ј–∞—В—Г–Љ–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –Є –Њ–љ —Г–њ–∞–ї. –°–µ—З–∞ –њ—А–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞–і –љ–Є–Љ, –љ–µ
–Ј–∞—В–Њ–њ—В–∞–≤, –љ–µ –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г–≤, –љ–µ –љ–∞–љ–µ—Б—П –љ–Њ–≤—Л—Е —А–∞–љ. –Т–∞—З–µ –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї —Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –≤
–Ш—Б–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞, –Ї–∞–Ї
—Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж—Л –±–µ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Н—В–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В, —В—Й–µ—В–љ–Њ –њ—Л—В–∞—П—Б—М —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є—В—М –Є—Е.
–°–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Г –Т–∞—З–µ —В–Њ –Ј–∞—В—Г–Љ–∞–љ–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —В–Њ –њ—А–Њ—П—Б–љ—П–ї–Њ—Б—М. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П
–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ—Б–Ї–∞ –Њ–љ –Њ–≥–ї—П–і–µ–ї—Б—П –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –ї–µ–ґ–Є—В –љ–∞ —Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–∞—Е
–ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л. –С–Њ–є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї—Б—П, –±—Л–ї–Њ —В–Є—Е–Њ, –≤ –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Є–Є –њ–Њ–ї—Л—Е–∞–ї–Є
–њ–Њ–ґ–∞—А—Л. –Т–∞—З–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–≥–Њ–љ—М –≥–Њ—А–Є—В —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ
–ґ–∞—А–Ї–Њ. –Я–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —В–µ–ї—Г —А–∞–Ј–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї—П—О—Й–Є–є –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–є –ґ–∞—А. –У–ї–∞–Ј–∞
–Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–∞–Љ–Є —Б–Њ–±–Њ–є. –•–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –љ–Є –Њ —З–µ–Љ –љ–µ –і—Г–Љ–∞—В—М, –љ–µ –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П,
–Ј–∞–і—А–µ–Љ–∞—В—М. –Ъ–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –Ј—Л–±–Ї–Є–µ –≤–Њ–ї–љ—Л –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Є –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Є, –Љ—П–≥–Ї–Њ
–њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞—П, —Г–±–∞—О–Ї–Є–≤–∞—П, —Г–љ–Њ—Б—П –≤—Б–µ –і–∞–ї—М—И–µ –Є –і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В —И—Г–Љ–∞, –Њ—В –Љ—Л—Б–ї–µ–є, –Њ—В
—Б–∞–Љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є.
–Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Т–∞—З–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞. –І—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –µ–≥–Њ –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ-—В–Њ
–Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –µ–≥–Њ –Њ–њ–µ—А–µ—В—М—Б—П –Њ –Ј–µ–Љ–ї—О —А—Г–Ї–∞–Љ–Є — –Њ–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П. –Я–Њ–і –ї–∞–і–Њ–љ—М—О
–±—Л–ї–Њ —В–µ–њ–ї–Њ –Є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Ї–Њ. «–Ь–Њ—П –Ї—А–Њ–≤—М, — –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Т–∞—З–µ, — —П –Є—Б—В–µ–Ї–∞—О –Ї—А–Њ–≤—М—О». —
–Ш —В—Г—В –ґ–µ —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П –≥–Њ–ї–Њ—Б:
— –Ґ—Л –Є—Б—В–µ–Ї–∞–µ—И—М –Ї—А–Њ–≤—М—О, –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–Є, —П —В–µ–±—П –њ–µ—А–µ–≤—П–ґ—Г.
–Я–µ—А–µ—Б–Є–ї–Є–≤ –і—А–µ–Љ–Њ—В—Г, –Т–∞—З–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї –¶–∞–≥–Њ.
— –І—В–Њ —В—Л –Ј–і–µ—Б—М –і–µ–ї–∞–µ—И—М? — —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–љ.
— –Ш—Й—Г —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В–Ї—Г –Њ—В–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –≤–Њ–і–Њ–є, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –µ–≥–Њ
–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –Њ–љ –Є—Б—З–µ–Ј.
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Т–∞—З–µ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –Є—Б–њ—Г–≥–∞–љ–∞ –Є –±–ї–µ–і–љ–∞ –¶–∞–≥–Њ. –У–ї–∞–Ј–∞ —Г –љ–µ–µ
–±–ї–µ—Б—В–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Г –њ—М—П–љ–Њ–є –Є–ї–Є —Г –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–љ–љ–Њ–є.
— –Ш–і–Є –Є—Й–Є. –Ю—Б—В–∞–≤—М –Љ–µ–љ—П. –ѓ — –љ–Є—З–µ–≥–Њ. — –Э–Њ –¶–∞–≥–Њ –≤–Є–і–µ–ї–∞, —З—В–Њ –ї–Є—Ж–Њ –Т–∞—З–µ
–њ–µ—А–µ–Ї–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—В –±–Њ–ї–Є. –Ю–љ–∞ —Б–љ—П–ї–∞ –Ї–Њ—Б—Л–љ–Ї—Г, —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–∞ –µ–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л,
—А–∞—Б—Б—В–µ–≥–љ—Г–ї–∞ –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж—Л –∞—А—Е–∞–ї—Г–Ї–∞ –Є –Њ—В—Л—Б–Ї–∞–ї–∞ —А–∞–љ—Г, –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –њ–Њ–≤—П–Ј–Ї—Г.
–Я–Њ–Ї–∞ –¶–∞–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–∞, –Т–∞—З–µ –Њ–Ј–Є—А–∞–ї—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥; –Њ–љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї, —З—В–Њ –ї–µ–ґ–Є—В
–≤–Њ–Ј–ї–µ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –†—Г—Б—Г–і–∞–љ. — –¶–∞–≥–Њ, — –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї –Њ–љ, —В–µ—А—П—П
—Б–Є–ї—Л, — –±—Г–і—М –і–Њ–±—А–∞, –Ј–∞—В–∞—Й–Є –Љ–µ–љ—П –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ—Ж.
–Я–µ—А–≤—Л–Љ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –¶–∞–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–љ–µ—Б—В–Є –Т–∞—З–µ –Ї —Б–µ–±–µ –і–Њ–Љ–Њ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤ —В–Њ—В
–≥–ї—Г—Е–Њ–є –њ–Њ–і–≤–∞–ї —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –≥–і–µ –Њ–љ–∞ –њ—А—П—В–∞–ї–∞—Б—М. –Э–Њ –і–Њ –µ–µ —Г–±–µ–ґ–Є—Й–∞ –±—Л–ї–Њ
–і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –Я–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ –љ–∞ –Ї–Њ–љ—П—Е —А—Л—Б–Ї–∞–ї–Є –Љ–∞—А–Њ–і–µ—А—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–Є. –Х–є –Є –Њ–і–љ–Њ–є
–±—Л–ї–Њ –±—Л –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –Ї –і–Њ–Љ—Г, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —Б —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ –≤–Њ–Є–љ–Њ–Љ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–∞—Е.
–Т—Б–µ –ґ–µ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤–Ј–≤–∞–ї–Є—В—М –Т–∞—З–µ —Б–µ–±–µ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Є, –љ–Њ —Г–њ–∞–ї–∞ –њ–Њ–і —В—П–ґ–µ—Б—В—М—О
–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Њ–±–Љ—П–Ї—И–µ–≥–Њ —В–µ–ї–∞. –Ю–њ—Г—Б—В–Є–≤ –Т–∞—З–µ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О, –Њ–љ–∞ –≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—В–∞—Й–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ
–≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ, –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї –і–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–µ–≤ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –Є —Г–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞
—А–∞–љ–µ–љ–Њ–≥–Њ.
— –Я–Њ–і–Њ–ґ–і–Є, — –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞, — —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞–є–і—Г —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Є –≤–µ—А–љ—Г—Б—М.
–Э–Њ –Т–∞—З–µ –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї –µ–µ —И–µ–њ–Њ—В–∞, –Њ–љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї, –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞
—В–Є—Е–∞—П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–∞—П –љ–Њ—З—М. –¶–∞–≥–Њ –≤—Л–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –Є–Ј –і–≤–Њ—А—Ж–∞.
–Ю—З–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –Т–∞—З–µ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А–µ–њ. –Ю–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ
–≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –±–µ—Б–њ–∞–Љ—П—В—Б—В–≤–Њ, –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, –≥–і–µ –Њ–љ —В–µ–њ–µ—А—М –Є
–Ї–∞–Ї —Б—О–і–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї. –Ю–≥–ї—П–і–µ–≤—И–Є—Б—М, —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ —Ж–∞—А–Є—Ж—Л
–†—Г—Б—Г–і–∞–љ, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ —В–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –µ—Й–µ —В–∞–Ї –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ, —Б —В–∞–Ї–Є–Љ
–≤–Њ–Њ–і—Г—И–µ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–љ —А–∞—Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї. –Я–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М —Б—В–µ–љ–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ
–Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї —Ж–∞—А–Є—Ж—Г –†—Г—Б—Г–і–∞–љ, –µ–і—Г—Й—Г—О –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞—Ж–Є—О –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–є
—Б–≤–Є—В—Л. –≠—В–∞ —Б—В–µ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ–є, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –ї–Є—Ж–Њ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є,
—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Њ—Б–ї–∞: –µ–µ —В–µ–ї–Њ, —А—Г–Ї–Є, –≤—Б—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ — –≤—Б–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ, –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ
–ї–Є—Ж–∞, –ї–Є—Ж–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є —И—В—А–Є—Е–∞–Љ–Є.
–†—Г—И–Є–ї—Б—П –Љ–Є—А, –≥–Њ—А–µ–ї –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Ј–∞–ґ–Є–≤–µ—В –ї–Є —А–∞–љ–∞ —Г –Т–∞—З–µ, –Є–ї–Є
–Њ–љ —Г–Љ—А–µ—В –Њ—В –љ–µ–µ. –Р –µ—Б–ї–Є –Є –≤—Л–ї–µ—З–Є—В—Б—П –Њ—В —Н—В–Њ–є —А–∞–љ—Л, –≤—Л–ґ–Є–≤–µ—В, —А–∞–Ј–≤–µ –љ–µ
–Ј–∞—А—Г–±–Є—В –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є –ґ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї? –Ф–∞ –Є —Н—В–Є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –љ–µ
—Г—Б—В–Њ—П—В. –Т—Б–µ –њ–Њ–ґ—А–µ—В –љ–µ–љ–∞—Б—Л—В–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М. –Х–Љ—Г –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–ґ–Є—А–∞—В—М, –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ
–±—А–µ–≤–љ–∞ –Є–ї–Є —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–Њ–і—З–Є—Е –Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤.
–Ъ–Њ–Љ—Г —Б–µ–є—З–∞—Б –і–µ–ї–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є,
—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –≤–Њ–Ј–ї–µ –Њ—Б–ї–∞! –Т–Њ –≤—Б–µ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є –Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Љ–Є—А–µ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ—В –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ
–љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Н—В–Њ –ї–Є—Ж–Њ –љ–µ –і–Њ–њ–Є—Б–∞–ї. –°—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї
–Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ
—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–µ, –і—А–Њ–≥–љ—Г–ї–Њ –Є –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Т–∞—З–µ. –Э–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–≤ –Ї–∞–Ї, –њ–Њ—З—В–Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є,
–Њ–љ –≤–Ј—П–ї –Ї–Є—Б—В—М –Є–Ј –≤–∞–ї—П–≤—И–Є—Е—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б—В–µ–љ—Л, –Њ–Ї—Г–љ—Г–ї –µ–µ –≤ –Ї—А–∞—Б–Ї—Г, —В—А–Њ–љ—Г–ї –Ї–Є—Б—В—М—О
—В–∞–Љ, –≥–і–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –±—А–Њ–≤—М. –Ь–∞–Ј–Њ–Ї –ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –Ї –Љ–∞–Ј–Ї—Г, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –ґ–∞—А —А–∞–±–Њ—В—Л,
–ґ–∞—А —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–Љ, –Є –Њ–љ, –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—П —Б–µ–±—П, –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—П, —З—В–Њ
—В–µ–њ–µ—А—М –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥, –љ–∞—З–∞–ї –њ–Є—Б–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –≤
–Љ–Є—А–µ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –≤–Њ–є–і–µ—В –µ–≥–Њ –і—А—Г–≥ –У–Њ—З–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ, –Є —Б—В–∞–љ–µ—В —Б–Ј–∞–і–Є, –Є, –њ–Њ–Љ–Њ–ї—З–∞–≤,
–њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ—В —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞.
–Ф–µ—Б–љ–Є—Ж–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –≤—Б–µ–ї—П–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –ї–Є—Ж–Њ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є, —Б—В–Њ—П—Й–µ–є –≤–Њ–Ј–ї–µ –Њ—Б–ї–∞.
–Ф–Њ–ї–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ —Н—В–Њ –ї–Є—Ж–Њ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ
–њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–ї–Њ—Б—М –Є–Ј —Б–µ—А–і—Ж–∞ –љ–∞ —Б—В–µ–љ—Г, –Њ–ґ–Є–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ –Є –Њ–ґ–Є–≤–Є–ї–Њ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ,
–љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ.
–Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ—Б—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞, —Б–Љ–µ–ї—Л–є –Є —А–µ–Ј–Ї–Є–є —А–∞–Ј–ї–µ—В –±—А–Њ–≤–µ–є. –У–ї–∞–Ј–∞
—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ –ґ–Є–≤–µ–µ, –≤—Б–µ –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤–µ–µ, —А—Г–Љ—П–љ–µ—Ж –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Б–Љ—Г–≥–ї—Г—О –Ї–Њ–ґ—Г
—Й–µ–Ї, –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А –Є—Б—З–µ–Ј –і–ї—П –Т–∞—З–µ, –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ –ї–Є—Ж–Њ, –Є –≤–Њ—В –Њ–љ–Њ
–≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–∞–µ—В –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ, –≤ —Б–њ–Њ—А–µ —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О, —Ж–∞—А—П—Й–µ–є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ–≥–Њ.
–Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Т–∞—З–µ —Б–њ–µ—И–Є–ї. –Ю–љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Б–Є–ї—Л –µ–≥–Њ
–Љ–Њ–≥—Г—В –Є—Б—Б—П–Ї–љ—Г—В—М –≤ –ї—О–±–Њ–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –і–Њ–њ–Є—Б–∞—В—М. –Ц–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж
–њ–Є—Б–∞–ї, –∞ —Б–Љ–µ—А—В—М —Б—В–Њ—П–ї–∞ –љ–∞–і –љ–Є–Љ, —Г –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є, –Ј–∞–Љ–∞—Е–љ—Г–≤—И–Є—Б—М —Б–≤–Њ–µ–є
–Ї–Њ—Б–Њ–є. –Э–Њ –≤—Б–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є —Б—В—А–∞—Б—В–Є, –≤—Б–µ–є –ґ–∞–ґ–і–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞–ї
–µ–µ, —Б—В–Њ—П—Й—Г—О –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –Є –Њ–ґ–Є–і–∞—О—Й—Г—О, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ,
–Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞–Ј–Ї–∞.
–Т–Њ—В –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Љ–∞–Ј–Њ–Ї. –Ц–Є–≤–∞—П –¶–∞–≥–Њ, —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞
—В–Њ–≥–і–∞, –њ—А–Є—Б–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї —Б—В–µ–љ–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є, —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П, –Ї–∞–Ї–Њ–є –µ–µ –≤—Б—О –ї—О–±–Є–ї
–Т–∞—З–µ, –¶–∞–≥–Њ –ґ–Є–≤–∞—П, –≤–µ—Б–µ–ї–∞—П, –ї—Г–Ї–∞–≤–∞—П, –≥–ї—П–і–µ–ї–∞ —Б–Њ —Б—В–µ–љ—Л –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П,
–љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—Ж–∞, –Є –Т–∞—З–µ —Б–∞–Љ —Г–і–Є–≤–ї—П–ї—Б—П –µ–є, —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–є –Є —В–∞–Ї–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є.
–Ю–љ —И–∞–≥–љ—Г–ї –Ї –љ–µ–є –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г, –Ї–Є—Б—В—М –≤—Л–њ–∞–ї–∞ –Є–Ј —А—Г–Ї, –±–Њ–ї—М –Њ—В –њ–ї–µ—З–∞ –њ—А–Њ–љ–Ј–Є–ї–∞ –≤—Б–µ
—В–µ–ї–Њ, –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞—Е–ї—Л–љ—Г–ї–∞ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–∞.
–Э–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –Т–∞—З–µ –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ —Б–µ–±—П –Њ—В –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –і–Є–Ї–Є—Е, –љ–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е
–≤–Њ–њ–ї–µ–є. –Я—А–Є—Б–ї—Г—И–∞–≤—И–Є—Б—М, –Њ–љ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї, —З—В–Њ –≥–і–µ-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –њ–ї–∞—З—Г—В –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л
–Є –і–µ—В–Є. –Ъ–Њ–µ-–Ї–∞–Ї –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–≤—И–Є—Б—М, –Њ–љ –і–Њ—В–∞—Й–Є–ї—Б—П –і–Њ –Њ–Ї–љ–∞.
–Э–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ъ—Г—А—Л –њ–µ—А–µ–і —Г–Ј–Ї–Є–Љ –Љ–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ–ї—М—И–∞—П —В–Њ–ї–њ–∞. –Э–µ
–≤–µ—Б—М –ї–Є –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є —Б–Њ–≥–љ–∞–ї–Є —Б—О–і–∞ — –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ —Б –і–µ—В—М–Љ–Є, –Є —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤, –Є
–њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤, –Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ? –°–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–є—В–Є –њ–Њ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї—Г,
–њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–є—В–Є –Є–љ–∞—З–µ, –Ї–∞–Ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤ –љ–∞ –≤—Б–µ–≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї—Г—О
—Б–≤—П—В—Л–љ—О — –Є–Ї–Њ–љ—Г –±–Њ–ґ—М–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є –Є–Ј –°–Є–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞.
–Ъ–Њ–µ-–Ї—В–Њ –Њ—Б–Љ–µ–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –Є —А–Њ–±–Ї–Є–Љ–Є —И–∞–≥–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї —З–µ—А–µ–Ј —А–Њ–Ї–Њ–≤—Г—О —З–µ—А—В—Г –Є
–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г. –Э–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –ї—О–і–Є –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –Є–і—В–Є,
—Г–њ–Є—А–∞–ї–Є—Б—М, –њ—П—В–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–Ј–∞–і. –Я–Њ–і—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Є –њ–ї–µ—В–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Є—Е –њ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Г—В—М
–≤–њ–µ—А–µ–і. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ –љ–µ —А–µ—И–∞–ї—Б—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В—М –љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О —Б–≤—П—В—Л–љ—О –Є
–њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –±–µ—А–µ–≥, —В—Г—В –ґ–µ —А—Г–±–Є–ї–Є —Б–∞–±–ї—П–Љ–Є –Є —Б–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Ъ—Г—А—Г.
–Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞ –Ї—Г–њ–Њ–ї–µ –°–Є–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ —В—А–Њ–љ. –Э–∞ —В—А–Њ–љ–µ
–≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞–ї –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–є —Б—Г–ї—В–∞–љ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ. –≠—В–Њ –Њ–љ —В–≤–Њ—А–Є–ї —Б—Г–і –љ–∞–і
–љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В–±–Є–ї–Є—Б—Ж–∞–Љ–Є. –Ш–ї–Є –Њ—В—А–µ–Ї–Є—Б—М –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–є –≤–µ—А—Л, –Є–ї–Є
—Б–Љ–µ—А—В—М — —В–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А.
–Ю—В —Г–ґ–∞—Б–љ—Л—Е –≤–Њ–њ–ї–µ–є –Є –Ї—А–Є–Ї–Њ–≤ —Г –Т–∞—З–µ —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–∞—Б—М –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞. –Ю–љ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї
–≥–ї–∞–Ј–∞ –Є –Ј–∞—В–Ї–љ—Г–ї —Г—И–Є, –љ–Њ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –Ї–∞–Ј–љ–Є –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –Є
–і–∞–ґ–µ –µ—Й–µ —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –µ—Б–ї–Є –± –≥–ї–∞–Ј–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л.
–Т–∞—З–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ —Б–Љ–µ—А–Є–ї —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ—В –Њ–Ї–љ–∞ –і–Њ –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞
–°–Є–Њ–љ–Є –Є –і–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞, –≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –љ–µ–Љ. –Ф–Њ –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –•–Њ—А–Њ—И–Њ
–Њ–±—Г—З–µ–љ–љ—Л–є –Є —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –≤–Њ–Є–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л –і–Њ—Б—В–∞—В—М –і–Њ –љ–µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї–Њ–є. –Э–Њ
–≥–і–µ –і–Њ—Б—В–∞—В—М —Б—В—А–µ–ї—Г –Є –≥–і–µ –≤–Ј—П—В—М —Б–Є–ї—Г? –†–∞–љ–µ–љ—Л–є –Њ–≥–ї—П–і–µ–ї –Ј–∞–ї –Є –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї
–љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–Є—Б—В–µ–є –Є –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї, —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л—Е —В–∞–Љ –Є —Б—П–Љ. –Э–Њ –Њ–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, —З—В–Њ
–љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –Њ–љ —Г–њ–∞–ї, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –µ–≥–Њ –ї—Г–Ї –Є –Ї–Њ–ї—З–∞–љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ
–Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —Г –Т–∞—З–µ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –¶–∞–≥–Њ
–Ј–∞—В–∞—Й–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –≤ —Н—В–Є –њ–∞–ї–∞—В—Л.
–Ш —В–Њ—З–љ–Њ — –Ї–Њ–ї—З–∞–љ –Є –ї—Г–Ї. –Ш –Њ–і–љ–∞-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї–∞ –≤ –Ї–Њ–ї—З–∞–љ–µ. –Ю–і–љ–∞,
–љ–µ –Є–Ј—А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞ –≤—А–∞–≥–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї–∞, –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—А–∞–Ј–Є—В—М —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ
–≤—А–∞–≥–∞, –Є, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Њ–љ–∞ –Њ–і–љ–∞ —Б–µ–є—З–∞—Б —Б—В–Њ–Є—В –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –Є –≤—Б–µ–≥–Њ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–≤–Њ–є—Б–Ї–∞.
–Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –і–Њ–њ–Њ–ї–Ј—В–Є –і–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –љ–∞–≤–µ—А—Е
–Є –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –Њ–Ї–љ–∞. –Р –і–Њ–±—А–∞–≤—И–Є—Б—М –і–Њ –Њ–Ї–љ–∞, –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П —Б —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Є
–Љ–µ—В–љ—Г—В—М —Н—В—Г –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Б—В—А–µ–ї—Г, –Є –і–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М, –Є –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ —Ж–µ–ї—М. –•–≤–∞—В–Є—В –ї–Є
–љ–∞ –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Б–Є–ї —Г –Є—Б—В–µ–Ї—И–µ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤—М—О –Т–∞—З–µ? –Ф–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Е–≤–∞—В–Є—В—М.
–Ъ–∞–ґ–і–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ –љ–µ—Б—В–µ—А–њ–Є–Љ—Г—О –±–Њ–ї—М, –Њ—В –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П
—В–µ–Љ–љ–µ–ї–Њ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е. –®–∞—А—П —А—Г–Ї–Њ–є –њ–Њ —Б—В–µ–љ–µ, –Т–∞—З–µ –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –≤–љ–Є–Ј –љ–∞
–ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Г. –Э–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –Ї–∞—А–∞–±–Ї–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –љ–∞–≤–µ—А—Е.
–Ы–Є–њ–Ї–∞—П –Є—Б–њ–∞—А–Є–љ–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –љ–∞ –ї–Є—Ж–µ –Є –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —В–µ–ї—Г, –≤ –≥–Њ—А–ї–µ –њ–µ—А–µ—Б–Њ—Е–ї–Њ, –Ї–∞–Ї
–±—Г–і—В–Њ –Њ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–љ–µ–є –љ–µ –њ–Є–ї.
–Ф–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, –њ—А–Њ—И–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –Т–∞—З–µ —Е–Њ–і–Є–ї –Ј–∞ –ї—Г–Ї–Њ–Љ. –Э–∞—А–Њ–і
–љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –њ–Њ—А–µ–і–µ–ї, —Е–Њ—В—П –њ–Њ –і—А—Г–≥—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Љ–Њ—Б—В–∞ –њ—А–Є–±–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ.
–°—Г–ї—В–∞–љ—Г, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Њ —Н—В–Њ —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–µ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ, –Є–ї–Є –Њ–љ —Г–ґ–µ –љ–∞—Б—Л—В–Є–ї—Б—П
–Ї—А–Њ–≤—М—О — —В—А–Њ–љ –±—Л–ї –њ—Г—Б—В. –Т–Њ—Б—Б–µ–і–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ —В—А–Њ–љ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї—Б—П —Б –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞
–°–Є–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О. –°–≤—П—В—Л–љ—П –њ–Њ–њ—А–∞–љ–∞, –љ–∞—А–Њ–і —Г–љ–Є–ґ–µ–љ, —З–µ–≥–Њ –ґ–µ –µ–Љ—Г –µ—Й–µ?
–Т–∞—З–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ—Б–∞–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —Г–њ—Г—Б—В–Є–ї —В–∞–Ї—Г—О —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М. –Э–Њ
–≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–∞–і–Њ —Г—Б–њ–µ—В—М —Б–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П —Б —Б–Є–ї–∞–Љ–Є, –њ–Њ–Ї–∞ —Б—Г–ї—В–∞–љ –љ–µ —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –Є–Ј –≥–ї–∞–Ј.
–°–Ї–Њ—А–µ–µ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ–њ–µ—А–µ—В—М—Б—П —Б–њ–Є–љ–Њ–є –Њ –Ї–Њ—Б—П–Ї –Њ–Ї–љ–∞, –љ–∞–њ—А—П—З—М—Б—П, —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ
–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є —Б–Є–ї, –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ю–і–љ–∞-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї–∞. –Т–Њ—В —Б—Г–ї—В–∞–љ
—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О. –Х–Љ—Г –њ–Њ–і–∞–ї–Є –±–µ–ї–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –ї–µ—В–љ–µ–µ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ, –Ї–Њ–љ—П. –Т–Њ—В –Ї–Њ–љ—М
–Ј–∞—А–ґ–∞–ї. –Э—Г–ґ–љ–Њ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Є–ї, —З—В–Њ–±—Л —Б—В—А–µ–ї–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ —Ж–µ–ї–Є, –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ,
–µ—Й–µ... –Х—Й–µ...
–Т —В–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П —Б—В—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Б—В—А–µ–ї–∞ —Б–Њ
—Б–≤–Є—Б—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—А–µ–Ј–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е. –°—В—А–µ–ї—П–≤—И–Є–є –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї –µ–µ –њ–Њ–ї–µ—В–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞
–ї–Є—И–Є–ї—Б—П —Б–Є–ї. –Ш —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї, — –Њ–≥–Њ—А—З–Є–ї—Б—П –±—Л, —З—В–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –і—А–Њ–≥–љ—Г–ї–∞
—А—Г–Ї–∞, –њ—А–Є–≤—Л–Ї—И–∞—П –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї –Ї–Є—Б—В–Є, —З–µ–Љ –Ї –ї—Г–Ї—Г. –°—В—А–µ–ї–∞ –≤–Њ–љ–Ј–Є–ї–∞—Б—М –≤ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—П
—Б—Г–ї—В–∞–љ–∞, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Г—Е–∞. –Ъ–Њ–љ—М –ґ–∞–ї–Њ–±–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї –Є —Г–њ–∞–ї –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–µ
–Ї–Њ–ї–µ–љ–∞. –°—Г–ї—В–∞–љ —Г—Б–њ–µ–ї —Б–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М, –Є –µ–≥–Њ –њ–ї–Њ—В–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є –≤–µ—А–љ—Л–µ
–Љ–∞–Љ–µ–ї—О–Ї–Є.
–°—Г–ї—В–∞–љ –≥–ї—П–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В –µ–≥–Њ –±–µ–ї—Л–є –Ї–Њ–љ—М, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М –Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –µ–≥–Њ
–≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –µ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л. –Ъ–Њ–љ—М –њ–ї–∞–Ї–∞–ї, —Б–ї–µ–Ј—Л –Ї–∞—В–Є–ї–Є—Б—М
–Є–Ј –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≥–ї–∞–Ј. –Я–ї–∞–Ї–∞–ї –Є —Б—Г–ї—В–∞–љ. –Э–Њ –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ
–Ј–∞–Ї—Г—Б–Є–ї –≥—Г–±—Г, –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ—И–µ–ї –њ—А–Њ—З—М, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤—Б–µ —В–µ–Љ –ґ–µ
–њ–ї–Њ—В–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ –Њ—Е—А–∞–љ—Л.
–°–Љ–µ—А—В—М –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—П –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –њ–Њ–љ—П–ї –Ї–∞–Ї –і—Г—А–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.
–Х—Б–ї–Є –±—Л –≤ –±–Њ—П—Е –Ј–∞ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Л —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г —Б—Г–ї—В–∞–љ–Њ–≤–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Њ–љ
–Є —В–Њ –љ–µ –њ–µ—З–∞–ї–Є–ї—Б—П –±—Л —В–∞–Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ. –Э–µ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ –±–µ—А–µ–≥ –Є –ї–µ–ї–µ—П–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ
–ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—П, –љ–µ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –≤ –ї—Г—З—И–µ–Љ —Б—В–Њ–є–ї–µ, –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є –ї—Г—З—И–Є–Љ
–Ї–Њ—А–Љ–Њ–Љ, –љ–µ —Б–Љ–µ–ї–Є —Г–і–∞—А–Є—В—М –Є–ї–Є –Њ—Б–µ–і–ї–∞—В—М. –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –ґ–і–∞–ї –њ–Њ–±–µ–і—Л. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ
–Ї–Њ–љ–µ –≤ —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–є —З–∞—Б –њ–Њ–±–µ–і—Л –Њ–љ –Љ–µ—З—В–∞–ї –≤—К–µ—Е–∞—В—М –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є –£—А–≥–µ–љ—З –Є –≤
–°–∞–Љ–∞—А–Ї–∞–љ–і.
–Ш –≤–Њ—В —В–µ–њ–µ—А—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—Г–і—М–±–∞, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –Ї —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г –ї–Є—Ж–Њ–Љ,
–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г —А–∞–Ј–љ–µ—Б–ї–∞—Б—М –≤–µ—Б—В—М –Њ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і–µ, –µ–≥–Њ –ї—О–±–Є–Љ–µ—Ж
–њ–∞–ї —В–∞–Ї –±–µ—Б—Б–ї–∞–≤–љ–Њ. –Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–≤–Є–і–Є—В –Њ–љ –•–Њ—А–µ–Ј–Љ–∞, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–і–∞—А–Є—В –Ї–Њ–њ—Л—В–Њ–Љ
–Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О –і–µ–і–Њ–≤ –Є –Њ—В—Ж–Њ–≤. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞
—В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ –±–µ—Б—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П —Б–Љ–µ—А—В—М –љ–∞ —З—Г–ґ–±–Є–љ–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –µ–Љ—Г –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М —А–Њ–і–љ—Л—Е
–Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Є —А–Њ–і–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –Њ–љ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В —Б—А–∞–ґ–µ–љ
–Є –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ—В, –љ–µ —Б–≤–µ–і—П —Б—З–µ—В–Њ–≤ —Б –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—Л–Љ —А—Л–ґ–Є–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ.
–Т–µ—Б—М –≥–љ–µ–≤ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –Њ–±—А—Г—И–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і. –Ь–∞–ї–Њ –Ї—А–Њ–≤–Є –±—Л–ї–Њ
–њ—А–Њ–ї–Є—В–Њ –љ–∞ –µ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ–Є, –Љ–∞–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–≥–љ—П. –°—Г–ї—В–∞–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—Ж–µ–њ–Є—В—М –≤—Б–µ —Г–ї–Є—Ж—Л,
–Њ–±—Л—Б–Ї–∞—В—М –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–Њ–Љ –Є, –µ—Б–ї–Є —Г–±–Є–є—Ж–∞ –Ї–Њ–љ—П –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–∞–є–і–µ–љ, —Б–ґ–µ—З—М –≤–µ—Б—М –≥–Њ—А–Њ–і,
—З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Љ–љ—П –љ–∞ –Ї–∞–Љ–љ–µ.
–°–ї–Њ–≤–љ–Њ –±–µ—И–µ–љ—Л–µ —Б–Њ–±–∞–Ї–Є, –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ –≤—Б–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї–Є
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞. –Ю–љ–Є —А—Г—И–Є–ї–Є, —В–∞—Й–Є–ї–Є, –њ—Л—В–∞–ї–Є, —А—Г–±–Є–ї–Є, –ґ–≥–ї–Є. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞—И–µ–ї—Б—П
–њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М. –Ю–љ —Г–њ–∞–ї –≤ –љ–Њ–≥–Є –њ–µ—А–µ–і –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ–Є –•–Њ—А–µ–Ј–Љ–∞ –Є –Ї–ї—П—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А–Є–ї, —З—В–Њ
–≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –Њ–і–Є–љ –≥—А—Г–Ј–Є–љ —Ж–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –Є–Ј —Г–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞ –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–∞–ї–∞—В —Ж–∞—А–Є—Ж—Л
–†—Г—Б—Г–і–∞–љ –Є –Ї–∞–Ї –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞ –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї–∞ —Б—В—А–µ–ї–∞.
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ —Б–∞–Љ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–ї–µ–і—Г. –Ю—А—Е–∞–љ, –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї
–Є –°—Г–ї—В–∞–љ—И–∞—Е —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –љ–Є–Љ. –Ф–≤–Њ—А–µ—Ж –±—Л–ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ, –Є –≤–Њ–Є–љ—Л –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –≤
–њ–Њ–Ї–Њ–Є. –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—А—Б—Л –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Г—Б–µ—А–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, –і–∞–±—Л –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М
–љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П. –Ю–љ–Є –±—Л—Б—В—А–Њ –љ–∞–њ–∞–ї–Є –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Л –Ї—А–Њ–≤–Є –Є –њ–Њ —Н—В–Є–Љ —Б–ї–µ–і–∞–Љ –љ–∞—И–ї–Є
–Т–∞—З–µ, –Ј–∞–±–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–µ —Г–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Ю–љ–Є, –Ї–∞–Ї –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, —В–Њ—В—З–∞—Б
—Г–Ј–љ–∞–ї–Є –≤ –Т–∞—З–µ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –Њ —З–µ–Љ –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ—Г.
–Т–∞—З–µ –±—Л–ї –±–µ–Ј —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Э–Њ –ї—Г–Ї –Є –Ї–Њ–ї—З–∞–љ –≤–∞–ї—П–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Ј–ї–µ –Є –њ—П—В–љ–∞ –Ї—А–Њ–≤–Є
–≤–µ–ї–Є –Њ—В –Њ–Ї–љ–∞ –Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г —Г–±–µ–ґ–Є—Й—Г –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞. –Я–Њ–≥–ї—П–і–µ–ї–Є –≤ –Њ–Ї–љ–Њ. –°–Є–Њ–љ–Є –±—Л–ї
–±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –Є –≤–µ—Б—М –љ–∞ –≤–Є–і—Г. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ: –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞ –Є
–њ—Г—Й–µ–љ–∞ —А–Њ–Ї–Њ–≤–∞—П —Б—В—А–µ–ї–∞, –ї–Є—И—М –њ–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Ј–∞–і–µ–≤—И–∞—П —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞,
–љ–Њ –Ј–∞—В–Њ —Б—А–∞–Ј–Є–≤—И–∞—П –µ–≥–Њ –ї—О–±–Є–Љ—Ж–∞. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –њ–µ—А—Б–Њ–≤ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї:
— –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –љ–µ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ —Ж–µ–ї—М?
— –Ь—Л –≤–µ–і—М –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ, — –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —Б—В—А–µ–ї–∞,
–≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–љ–∞—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–Љ.
— –Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ –ї—Г–ґ–Є –Ї—А–Њ–≤–Є. –Ю–љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–µ–љ. –Т –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Є —Н—В–Њ
–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї.
–Т–Ј–±–µ—И–µ–љ–љ—Л–є, –ґ–∞–ґ–і—Г—Й–Є–є –Љ–µ—Б—В–Є –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –±—Л—Б—В—А–Њ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –љ–Њ–≤—Л–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є
–і–≤–Њ—А–µ—Ж. «–У–і–µ –Њ–љ? — –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –≤–µ—Б—М –µ–≥–Њ –ї–Є–Ї. — –Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є—В–µ –Љ–љ–µ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ,
—З—В–Њ–±—Л —П –Љ–Њ–≥ –Ј–∞–і—Г—И–Є—В—М –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л —П –Љ–Њ–≥ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤
—А—Г–Ї–Є –њ–∞–ї–∞—З–∞ –і–ї—П –Є—Б—В—П–Ј–∞–љ–Є—П –Є –њ—Л—В–Њ–Ї!» –°–≤–Є—В–∞ –µ–і–≤–∞ –њ–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–ї–∞ –Ј–∞ —Б—Г–ї—В–∞–љ–Њ–Љ.
–Я–µ—А–µ–і –і–≤–µ—А—М–Љ–Є –≤ —Е–Њ—А–Њ–Љ—Л –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П. –Х–Љ—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М,
—З—В–Њ –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤–Њ–і–∞, –Є –Њ–љ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–ї –њ–Њ–ї—Л —Е–∞–ї–∞—В–∞. –Э–Њ, –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–љ—П–≤ —Д–Њ–Ї—Г—Б,
—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї —Е–∞–ї–∞—В –Є —В–≤–µ—А–і—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ —Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–ї. –°
–њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–≥–ї—П–і–µ–ї –Њ–љ –љ–∞ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л—Е, –≤—Л—И–∞–≥–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ —Ж—Л–њ–Њ—З–Ї–∞—Е, —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ
–Ј–∞–і—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Е–∞–ї–∞—В–∞–Љ–Є. –Т—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П —Б—Г–ї—В–∞–љ, –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–≤ –љ–∞
—А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Г—О –Т–∞—З–µ —Б—В–µ–љ—Г –њ–∞–ї–∞—В—Л. –Ю–љ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –≤—Б–µ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –Ю–љ –љ–µ
–Љ–Њ–≥ –Њ—В–≤–µ—Б—В–Є –≥–ї–∞–Ј –Њ—В –¶–∞–≥–Њ, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —Е–Њ—В—П –Є –њ—А–∞–≤–µ–µ —Ж–∞—А–Є—Ж—Л, –љ–Њ —П–≤–ї—П—О—Й–µ–є—Б—П
—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є –≤ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —Б—Г–ї—В–∞–љ –Ј–∞–±—Л–ї –њ—А–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ
–Ї–Њ–љ—П. –Х—Й–µ –±—Л, –Њ–љ –Њ–±—К–µ–Ј–і–Є–ї –≤–µ—Б—М –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї, –≤ –µ–≥–Њ –≥–∞—А–µ–Љ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ—Л –Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–є—И–Є–µ
–ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж—Л –Њ–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –љ–Њ –Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї,
—З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ.
— –Ъ–∞–Ї–∞—П –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞! — –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—А–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г –љ–µ–≥–Њ. — –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –Љ–љ–µ
—А–∞—Б—Е–≤–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –°–Ї–∞–ґ–Є—В–µ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї—Г, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –Љ–љ–µ
—Н—В—Г –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж—Г, —П –њ–Њ–і–∞—А—О –µ–Љ—Г –ґ–Є–Ј–љ—М.
–Т–∞—З–µ –Є –±–µ–Ј –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ –њ–Њ–љ—П–ї —Б–ї–Њ–≤–∞ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞, –Њ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Ж–µ–њ–Є–ї –Ј—Г–±—Л –Є
–Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї —Б—В–µ–љ–µ.
— –≠—В–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, — –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –°—Г–ї—В–∞–љ—И–∞—Е, — —П –µ–µ –Ј–љ–∞—О. –Ю–љ–∞
–ґ–µ–љ–∞ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –Ґ–Њ—А–µ–ї–Є. –Х–µ –Љ—Г–ґ –њ–Њ–≥–Є–± –Њ—В –≤–∞—И–µ–є —Б–∞–±–ї–Є –≤ –У–∞—А–љ–Є—Б—Б–Ї–Є—Е
–≥–Њ—А–∞—Е.
–Э–Њ —Г –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ, –Є –Њ–љ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ –Є
—Б—Г—А–Њ–≤–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
— –Я—А–Њ—А–Њ–Ї –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–µ—В –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—В—М –Њ–і—Г—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Т –і–µ–љ—М
–°—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤ —Б–Њ–є–і—Г—В —Б –Ї–∞—А—В–Є–љ –Є –њ–Њ—В—А–µ–±—Г—О—В, —З—В–Њ–±—Л
—Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –≤—Б–µ–ї–Є–ї–Є –≤ –љ–Є—Е –і—Г—И–Є. –Т—Б–µ–ї—П—В—М –ґ–µ –і—Г—И—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–і–Є–љ –±–Њ–≥. — –°—Г–ї—В–∞–љ
–њ—А–Њ—И–µ–ї –Љ–Є–Љ–Њ –ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г –Т–∞—З–µ. — –Ґ—Л, –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж, –≤ –°—Г–і–љ—Л–є –і–µ–љ—М –љ–µ
—Б–Љ–Њ–ґ–µ—И—М –≤–і–Њ—Е–љ—Г—В—М –ґ–Є–≤—Л–µ –і—Г—И–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В—Л —Г–ґ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б
–Њ–±—А–µ—З–µ–љ –≥–Њ—А–µ—В—М –љ–∞ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ –Њ–≥–љ–µ. –Ы—О—В–Њ–є –±—Г–і–µ—В —В–≤–Њ—П –Ї–∞–Ј–љ—М. — –°—Г–ї—В–∞–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї
–≥–ї–∞–Ј–∞ –Ї–≤–µ—А—Е—Г, –ї–Є—Ж–Њ –µ–≥–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–Њ –Ј–ї–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ —Г–ґ–µ –≤–Є–і–µ–ї
—Н—В–Њ—В –∞–і—Б–Ї–Є–є –Њ–≥–Њ–љ—М, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є—П —Г–±–Є–є—Ж—Л —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—П. — –≠—В–∞ –Ї–∞—А–∞
–њ—А–Є–і–µ—В, –љ–Њ —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В —В–∞–Љ, –∞ –Ј–і–µ—Б—М... –Ј–і–µ—Б—М —П —В–≤–Њ–є –±–Њ–≥, –Є —П —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞—А–∞—О
—В–µ–±—П.
— –Т—А—П–і –ї–Є –Њ–љ –і–Њ–ґ–Є–≤–µ—В –і–Њ –Ї–∞–Ј–љ–Є, — –≤—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–ї–Њ–≤—Ж–Њ –Ю—А—Е–∞–љ, — —В—П–ґ–µ–ї–Њ
—А–∞–љ–µ–љ, –і–∞–≤–љ–Њ –Є—Б—В–µ–Ї–∞–µ—В –Ї—А–Њ–≤—М—О.
— –ѓ –≤–Є–ґ—Г –Є –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤–∞—О —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≤—А–∞—З—Г –≤—Л–ї–µ—З–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤–Њ —З—В–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ.
–Я—Г—Б—В—М –Њ–љ –±—Г–і–µ—В —В–∞–Ї –ґ–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –і–Њ —А–∞–љ–µ–љ–Є—П, –ї–Є—И—М —В–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –Ї–Њ—Б–љ–µ—В—Б—П –љ–∞—И
–≥–љ–µ–≤. –Э—Г-–Ї–∞ —Б–Ї–∞–ґ–Є, –Ю—А—Е–∞–љ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –±—Г–і–µ—В –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ –Є
–≥–Њ—А—М–Ї–Є–Љ?
— –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –µ–≥–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ—Г—В–µ–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П –і–µ—Б–љ–Є—Ж—Л. –Ц–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –±–µ–Ј
–њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Є — –љ–Є—З—В–Њ. –Ю–љ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Ј—П—В—М –Ї–Є—Б—В—М –Є –±—Г–і–µ—В –Љ—Г—З–Є—В—М—Б—П –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞
—Б–≤–Њ–Є—Е –і–љ–µ–є. –Т–Њ—В –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В —Б–∞–Љ–Њ–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ.
— –°–ї—Л—И–∞–ї –Є —П, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ—В—А—Г–±–∞—О—В –њ—А–∞–≤—Г—О
—А—Г–Ї—Г. –Э–Њ —А–∞–Ј–≤–µ —Н—В–Њ –±–µ–і–∞? –Я—А–∞–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –Њ—В—А—Г–±–∞—О—В —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ—А–∞–Љ. — –°—Г–ї—В–∞–љ
–њ–µ—А–µ–≤–µ–ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞ –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї–∞. –Т–Є–Ј–Є—А—М –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М.
— –Т –У—А–µ—Ж–Є–Є, –Ї–∞–Ї —П —Б–ї—Л—И–∞–ї, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є–Љ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ,
–≤—Л–Ї–∞–ї—Л–≤–∞—О—В –≥–ї–∞–Ј–∞, — –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –≤–Є–Ј–Є—А—М –Є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ—Г.
— –Т—Л–Ї–Њ–ї–Њ—В—М –≥–ї–∞–Ј–∞! –Т —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М.
–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –і–ї—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ—В –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Ї–∞—А—Л, —З–µ–Љ –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М –≥–ї–∞–Ј–∞. –Ф–ї—П –љ–µ–≥–Њ
–±—Г–і–µ—В –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–∞ –≤—Б—П –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞ –Љ–Є—А–∞, –∞ —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –љ–µ —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞—О—Й–Є–є
–Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л? –Я—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О: –Є—Б—Ж–µ–ї–Є—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ,
—З—В–Њ–±—Л –Љ—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –≤—Л–Ї–Њ–ї–Њ—В—М –µ–Љ—Г –≥–ї–∞–Ј–∞.
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї —А—Г–Ї—Г –≤ –Ј–љ–∞–Ї —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Є —З—В–Њ
—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є –±—Л—Б—В—А—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –њ–∞–ї–∞—В
–≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–∞—А–Є—Ж—Л.
–Т–Є–Ј–Є—А—М –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –Љ–Є–Љ–Њ —Б–µ–±—П –≤—Б—О —Б–≤–Є—В—Г –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –≤—Л—И–µ–ї
–Є–Ј –і–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞. –°–≤–Њ–Є–Љ —Ж–µ–њ–Ї–Є–Љ –≥–ї–∞–Ј–Њ–Љ –Њ–љ —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П —Г–≥–ї—П–і–µ—В—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ
–Ј–і–µ—Б—М –≤–Ј—П—В—М –Є —Г–≤–µ–Ј—В–Є. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ –±—Л–ї —А–∞–Ј–≥–љ–µ–≤–∞–љ, –љ–µ –≥–ї—П–і–µ–ї –њ–Њ
—Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ, –Є–±–Њ –≤—Б–µ, —З—В–Њ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г, –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г, — —В–∞–Ї–Њ–≤
–Ј–∞–Ї–Њ–љ. –Т–Є–Ј–Є—А—О –і–Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ, –Љ–Є–Љ–Њ —З–µ–≥–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ –њ—А–Њ—И–µ–ї. –Т–Є–Ј–Є—А—О
–і–Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ, —Г–ґ–µ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–µ–µ –≤ –Ї–∞–Ј–љ–µ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞, –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, —Г–ґ–µ
–њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤ –µ–≥–Њ –≥–∞—А–µ–Љ–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ґ–∞–і–љ—Л–є –≤–Є–Ј–Є—А—М –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–Є—Е
–≤—А–∞–≥–Њ–≤ –µ—Й–µ —А–∞–Ј –Њ–±–Њ—И–µ–ї –і–≤–Њ—А–µ—Ж –Є —Б–∞–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –≤–Ј—П—В—М –Є –Ї—Г–і–∞ –Њ—В–≤–µ–Ј—В–Є. –Ю–і–Є–љ
–≥—А–∞–±–Є—В–µ–ї—М —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –Њ–њ–µ—А–µ–і–Є—В—М –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ.
–Т–∞—З–µ –Ј–∞–±–ї–∞–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–≤–µ–Ј —Б–≤–Њ—О —Б–µ–Љ—М—О –≤ –Р—Е–∞–ї–і–∞–±—Г. –Т—А–∞–≥ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї –µ—Й–µ
–і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –±–Њ—П—В—М—Б—П –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї–∞ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –Я–Њ
–љ–Њ—З–∞–Љ –Т–∞—З–µ —Г—Е–Њ–і–Є–ї –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –Є –±–Њ–і—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —В–∞–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б
–Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є, —Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ–∞–Љ–Є, –≥–Њ—В–Њ–≤—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П
–≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –≤—А–∞–≥–∞.
–≠—В–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–∞ –Ј–∞–±–∞–≤—Г. –°–Є–ї—М–љ—Л–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –Є —О–љ–Њ—И–Є —Г–њ—А–∞–ґ–љ—П–ї–Є—Б—М –≤
—Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –Є–Ј –ї—Г–Ї–∞, –≤ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —Б–Њ —Й–Є—В–Њ–Љ –Є –Љ–µ—З–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ–Њ–Љ –±–Њ—О. –Ф–ї—П –Т–∞—З–µ,
–і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –і–µ—А–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –љ–Є—З–µ–≥–Њ —В—П–ґ–µ–ї–µ–µ –Ї–Є—Б—В–Є, –≤—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї
–њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –і—Г—И–Є,
–ґ–∞–ґ–і–∞–≤—И–µ–є —Б—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М –≤–Њ —Б–ї–∞–≤—Г –µ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М
–Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±—А–∞–љ–Є.
–Т –і–µ–љ—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –і–љ–µ–Љ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –Т–∞—З–µ –Ј–∞—И–µ–ї –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ
–≤ —Б–≤–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –і–Њ–Љ –Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Ы–µ–ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Њ –≤–µ–і—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ
–љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –Њ—В–ї—Г—З–∞—В—М—Б—П –Є–Ј –Р—Е–∞–ї–і–∞–±—Л.
— –Ч–∞—З–µ–Љ —В—Л –њ—А–Є—И–ї–∞? — –Ј–∞–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Т–∞—З–µ. — –І—В–Њ —В—Л –Ј–і–µ—Б—М –і–µ–ї–∞–µ—И—М, –≥–і–µ
—А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, —Б –Ї–µ–Љ —В—Л –µ–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞? –Ґ—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ —В–µ–±–µ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ –≤—Л–є—В–Є –Є–Ј
–≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Ї–∞–Ї –ґ–µ –љ–∞–Љ –±—Л—В—М?
— –ѓ —Б–Ї—Г—З–∞—О –њ–Њ —В–µ–±–µ, –Т–∞—З–µ. –ѓ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –±—Л—В—М –≤–і–∞–ї–Є –Њ—В —В–µ–±—П, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤
—В–∞–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Б —В–Њ–±–Њ–є –Ї–∞–Ї–∞—П –±–µ–і–∞, –∞ —П –≤–і–∞–ї–Є –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ–Љ–Њ—З—М. –Р
–і–Њ—З–Ї–∞ —Г —В–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –Њ–љ–∞ –≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—П. –ѓ –ґ–µ –Њ—Б—В–∞–љ—Г—Б—М —Б
—В–Њ–±–Њ–є. –Я–Њ–њ—А–Њ—Б–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞ –У–Њ—З–Є, –њ—Г—Б—В—М –Њ–љ –њ–Њ—А—Г—З–Є—В –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –і–µ–ї–Њ,
–њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ.
–Т–∞—З–µ —А–∞—Б—Б–µ—А–і–Є–ї—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г, –љ–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–µ—А–і–Є—В—М—Б—П –љ–∞
—В–∞–Ї—Г—О –ґ–µ–љ—Г? –£–њ—А–µ–Ї–∞—В—М –µ–µ —В–µ–њ–µ—А—М –±—Л–ї–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ, –Є –Т–∞—З–µ –Њ–±–µ—Й–∞–ї –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б
–У–Њ—З–Є. –Т —Н—В—Г –љ–Њ—З—М, –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –Љ–Є—А–љ—Г—О –љ–Њ—З—М –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л, –Ї–∞–Ї
–Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–ґ–µ–љ—Л.
–£—В—А–Њ–Љ –Т–∞—З–µ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї —А–∞—В–љ–Є–Ї–∞–Љ, –∞ –≤ –њ–Њ–ї–і–µ–љ—М –≤ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞—Е
–њ—Л–ї–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–∞ –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П, –љ–Њ
–ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–∞—П —Б–µ—З–∞. –†–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—В—А—П–і —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤ —Б–њ–∞—Б—Б—П –±–µ–≥—Б—В–≤–Њ–Љ, –∞
–≥—А—Г–Ј–Є–љ—Л, –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ–Љ—Л–µ –Ф–ґ–∞–Ї–µ–ї–Є, —Б –њ–Њ–±–µ–і–Њ–є –Є –ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М
–≤ –≥–Њ—А–Њ–і. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –ґ–і–∞—В—М. –Ю–±–Њ—А–Њ–љ–Њ–є
–Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –У–Њ—З–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ.
–°–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –Т–∞—З–µ, –Њ–љ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П:
— –Э–µ –і—Г–Љ–∞–ї–Є –Љ—Л, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –і–µ–љ—М –±—Г–і–µ—В —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–±–Є—В—Л—Е –Є —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е.
–Э–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В –≤—А–∞—З–µ–є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є –±—Л –Є–Љ.
— –Ю—В–њ—А–∞–≤—М —В—Г–і–∞ –Ы–µ–ї—Г. –Ю–љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б–Є—В –і–∞—В—М –µ–є –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ
–і–µ–ї–Њ. –Ш –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј...
— –І—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –Ы–µ–ї–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ? — –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П –У–Њ—З–Є. — –Ґ—Л –ґ–µ –Њ—В–≤–µ–Ј –µ–µ –≤
–Р—Е–∞–ї–і–∞–±—Г.
— –Ф–∞, –љ–Њ...
–У–Њ—З–Є —Б–њ–µ—И–Є–ї –Є –љ–µ –і–Њ–ґ–і–∞–ї—Б—П –Њ—В–≤–µ—В–∞ –Т–∞—З–µ, –Њ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞—Е–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Њ–є.
— –Э–∞–є–і–Є –µ–µ –Є —Б–Ї–Њ—А–µ–є –Њ—В–≤–µ–і–Є –≤ –Ш—Б–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, — –Є –У–Њ—З–Є, –њ—А–Є—И–њ–Њ—А–Є–≤
–Ї–Њ–љ—П, –њ–Њ—Б–Ї–∞–Ї–∞–ї –Ї –Ш—Б–∞–љ–Є.
–£—Б—В—А–Њ–Є–≤ –Ы–µ–ї—Г, –Т–∞—З–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П. –Ш—Б–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞
–љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ. –Х—Б–ї–Є –±—Л –і–∞–ґ–µ –≤—А–∞–≥–Є –≤–Ј—П–ї–Є –≤–µ—Б—М –≥–Њ—А–Њ–і, –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Ш—Б–∞–љ—Б–Ї—Г—О
–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Є–Љ –≤–Ј—П—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–њ—А–Є—Б—В—Г–њ–љ–∞.
–Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Њ—Б–∞–ґ–і–∞–≤—И–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і, –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ.
–Ю—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Б–љ–Њ–≤–∞ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї—Г, –љ–Њ –≤—Б–µ –њ–Њ—И–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ.
–Т—Л–ї–∞–Ј–Ї–∞ –љ–µ —Г–і–∞–ї–∞—Б—М. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –Љ—П—В–µ–ґ –њ–µ—А—Б—Л-–Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ–µ. –Ь–µ–Љ–љ–∞
–Ф–ґ–∞–Ї–µ–ї–Є –±—Л–ї —Г–±–Є—В, –≤—А–∞–≥–Є –≤–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ, –љ–Є–Ї–µ–Љ –љ–µ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–µ–Љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞
–≥–Њ—А–Њ–і–∞, –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е –Ј–∞–≤—П–Ј–∞–ї—Б—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–є –±–Њ–є.
–Т —А–∞–Ј–≥–∞—А –±–Њ—П –≤ –Ш—Б–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ
–Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л — —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л–µ –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ы–µ–ї–∞,
–≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Љ–Њ—З—М —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –Є –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є
–њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–Є –Є—Е –≤ —Г–Ї—А—Л—В–Є–µ.
–Ы–µ–ї–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Г–ї–Є—Ж—Л —Г–њ–∞–ї —Б—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–Є–љ –Є
—Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –і—Л–Љ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞, —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —З–∞—Б—В–Њ –ї–µ—В—П—Й–Є–µ —Б—В—А–µ–ї—Л –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г. –Т–Њ–Є–љ
—Б—В–Њ–љ–∞–ї. –Ы–µ–ї–∞ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і –Љ—Л—И–Ї–Є –Є –њ–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–ї–∞ –Ј–∞ —Г–≥–Њ–ї, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ —В–Є—И–µ –Є
–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –і–Њ–ї–µ—В–∞–ї–Є —Б—В—А–µ–ї—Л –≤—А–∞–≥–Њ–≤. –Ч–∞ —Г–≥–ї–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ–≥–Њ
–і–≤–Њ—А–∞. –Ы–µ–ї–∞ —Б—Г–Љ–µ–ї–∞ –Ј–∞—В–∞—Й–Є—В—М —А–∞–љ–µ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Н—В–Є —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л –Є –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞
–Ј–µ–Љ–ї—О, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –µ–є –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–і—Л—И–∞—В—М—Б—П.
— –Т–Њ–і—Л, — –њ—А–Њ—Б–Є–ї —А–∞–љ–µ–љ—Л–є. — –Я–Є—В—М, –≤–Њ–і—Л.
–Ю–љ —Г–Љ–Є—А–∞–ї, –Є –Ы–µ–ї–∞ –Љ—Г—З–Є–ї–∞—Б—М –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞–њ–Њ–Є—В—М –њ–µ—А–µ–і —Б–Љ–µ—А—В—М—О
—Н—В–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –Т–∞—З–µ —Б—В–Њ–љ–µ—В —Б–µ–є—З–∞—Б —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М
–љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –Я–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г — —Б—В–Њ–љ –Є –≤–Њ–њ–ї–Є, —В—А—Г–і–љ–Њ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П
–ґ–Є–≤—Л–Љ –Є –љ–µ–≤—А–µ–і–Є–Љ—Л–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–µ–Ї–ї–µ.
–Я–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ –Ј–∞–≥—А–µ–Љ–µ–ї–Є –Ї–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–њ—Л—В–∞. –Ю—Б—В–∞—В–Ї–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є
—Г–Ї—А—Л—В—М—Б—П –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ–Є —Б–Ї–∞–Ї–∞–ї–Є –≤ –≤–Њ—А–Њ—В–∞, –Њ–њ–µ—А–µ–ґ–∞—П –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞. –Я–µ—И–Є–µ
–±–µ–ґ–∞–ї–Є –±–µ–≥–Њ–Љ, –Њ–±–≥–Њ–љ—П—П –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е.
–Ы–µ–ї–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞ –Т–∞—З–µ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ —В–∞–Љ, –≤ —Н—В–Њ–є —В–Њ–ї–њ–µ, –Є —В–µ–њ–µ—А—М
–≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–ї–њ–∞ —Г–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –Ј–∞ —Б—В–µ–љ–Њ–є, –≤–Њ—А–Њ—В–∞
–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–≥–ї—Г—Е–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М, –Є –≤–Њ–є—В–Є –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Г–ґ –љ–Є –≤—А–∞–≥, –љ–Є –і—А—Г–≥.
–†–∞–љ–µ–љ—Л–є —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞—Б—В–Њ–љ–∞–ї. –Ы–µ–ї–∞ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ—З–љ—Г–ї–∞—Б—М –Њ—В –Ј–∞–±—Л—В—М—П –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞
–≤–Њ–Ј–Є—В—М—Б—П —Б –≤–Њ–Є–љ–Њ–Љ. –Т –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –≤ –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В –µ–≥–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є —Г–ґ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П, –і–∞ –Є —Б–∞–Љ–∞
–Њ–љ–∞ —В—Г–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–µ—В. –Ы–µ–ї–∞ –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Ї—А—Г–≥, –њ–Њ–љ—П–≤ –≤—Б—О
–±–µ–Ј–≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –Э–Њ —А—П–і–Њ–Љ –±—Л–ї —А–∞–љ–µ–љ—Л–є, –Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ
–і—Г–Љ–∞—В—М –Њ –љ–µ–Љ. –Ы–µ–ї–∞ –≥–і–µ —А–∞—Б—Б—В–µ–≥–љ—Г–ї–∞, –≥–і–µ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–∞ –Њ–і–µ–ґ–і—Г. –†–∞–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤
–±–Њ–Ї—Г, –Њ–љ–∞ —Б–Њ—З–Є–ї–∞—Б—М –Ї—А–Њ–≤—М—О. –Ы–µ–ї–∞ –Ј–∞–ґ–∞–ї–∞ —А–∞–љ—Г –Ї–Њ—Б—Л–љ–Ї–Њ–є — —Н—В–Њ –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞
–Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М.
— –Ь–∞–Љ–∞, — –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Ј–∞—Б—В–Њ–љ–∞–ї —А–∞–љ–µ–љ—Л–є –Є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї
–љ–∞ –Ы–µ–ї—Г. — –Ґ—Л... –ґ–µ–љ–∞ –Т–∞—З–µ?
–Ы–µ–ї–∞ –Ї–Є–≤–љ—Г–ї–∞.
— –ѓ — –Ь–∞–Љ—Г–Ї–∞, –±—А–∞—В –¶–∞–≥–Њ, –Ј–ї–∞—В–Њ–Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж... –®—Г—А–Є–љ... –±—А–∞—В –ґ–µ–љ—Л –њ–Њ—Н—В–∞
–Ґ–Њ—А–µ–ї–Є.
–Ы–µ–ї–∞ –≤–≥–ї—П–і–µ–ї–∞—Б—М –≤ –ї–Є—Ж–Њ –Ь–∞–Љ—Г–Ї–Є. –Ю–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–Њ –Њ—В –±–Њ–ї–Є, —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є,
–љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –≤ –љ–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є—В–Є —З–µ—А—В—Л, –Њ–±—Й–Є–µ —Б –µ–≥–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є.
— –Я–Њ–Љ–Њ–≥–Є, —Г–Љ–Њ–ї—П—О... –Ъ–∞–Ї —Б–µ—Б—В—А—Г... –Ш–Љ–µ–љ–µ–Љ –Т–∞—З–µ.
–Ы–µ–ї–∞ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞ –≤ –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–µ. –Э–∞ –±—Л–≤—И–µ–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ –њ–µ—А–µ–±–Є—В–Њ.
–Т –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ —З–µ—А–µ–њ–Ї–µ –Ї—Г–≤—И–Є–љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і—Л. –Ы–µ–ї–∞ –і–∞–ї–∞ –њ–Њ–њ–Є—В—М
—А–∞–љ–µ–љ–Њ–Љ—Г –Є –Њ–±–Љ—Л–ї–∞ —А–∞–љ—Г, –њ–Њ—Б—В–ї–∞–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є–µ —В—А—П–њ–Ї–Є –Є —Г–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞
–±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М.
–Ю—Б—В–∞—В–Ї–Є –і–љ—П –Є —Ж–µ–ї—Г—О –љ–Њ—З—М –Ы–µ–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ —Б –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ, –љ–µ —Б–Њ–Љ–Ї–љ—Г–ї–∞ –≥–ї–∞–Ј, –љ–µ
–Њ—В–Њ—И–ї–∞ –љ–Є –љ–∞ —И–∞–≥. –Ь–∞–Љ—Г–Ї–∞ –Љ–µ—В–∞–ї—Б—П –Є —Б—В–Њ–љ–∞–ї. –Ы–Њ–± –µ–≥–Њ –њ—Л–ї–∞–ї –Њ–≥–љ–µ–Љ. –Ы–µ–ї–∞ –љ–µ
—Г—Б–њ–µ–≤–∞–ї–∞ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М –Љ–Њ–Ї—А—Г—О —В—А—П–њ–Ї—Г. –Э–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–Њ–і–∞ –≤ —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–Љ –Ї—Г–≤—И–Є–љ–µ
–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М, –Є –Ї–∞–Ї –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є –љ–Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—Б—В—Г–і–Є—В—М –ґ–∞—А, –і–∞–ґ–µ —Н—В–Њ–є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є
–њ—А–Њ—Б—М–±—Л –Ы–µ–ї–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М.
–Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М –ґ–∞—А —Г—Б–Є–ї–Є–ї—Б—П, –Ь–∞–Љ—Г–Ї–∞ –≤–њ–∞–ї –≤ –Ј–∞–±—Л—В—М–µ –Є —Б—В–∞–ї –±—А–µ–і–Є—В—М.
–Ы–µ–ї–∞ –њ–Њ–љ—П–ї–∞, —З—В–Њ –Њ–љ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В, –љ–Њ –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М. –Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є
–Ы–µ–ї–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–∞ –Є–Ј —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ –љ–∞—А—Г–ґ—Г, –љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є—В—Б—П –ї–Є –≤–±–ї–Є–Ј–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ. –Э–Њ
–њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ —А—Л—Б–Ї–∞–ї–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Њ—В—А—П–і—Л —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤. –Ю–љ–Є –Є—Б–Ї–∞–ї–Є, —З–µ–Љ –±—Л
–њ–Њ–ґ–Є–≤–Є—В—М—Б—П –µ—Й–µ, –і–Њ–ґ–Є–≥–∞–ї–Є –љ–µ–і–Њ–ґ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ, —Г–±–Є–≤–∞–ї–Є –љ–µ—Г–±–Є—В–Њ–µ. –У–і–µ —Г–ґ —В—Г—В
–њ–Њ—П–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—И–µ!
–Э–Њ –њ–Њ–і –≤–µ—З–µ—А –≤ —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–∞—Е –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г—В–∞—П –≤ —З–µ—А–љ–Њ–µ
–њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Њ. –Ю–љ–∞, –њ—Г—В–∞—П—Б—М –≤ –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е –Њ–і–µ–ґ–і–∞—Е, –±–µ–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ. –Ы–µ–ї–∞ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–∞
–µ–µ –ї–Є—Ж–∞, –љ–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–∞—П, –Є —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –µ–є –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–∞
–±—Л–ї–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –і—А—Г–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –Њ–љ–∞ –љ–µ –≤—Л—И–ї–∞ –±—Л –≤ —В–∞–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г –Њ–і–љ–∞,
–њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ы–µ–ї–∞ –≤—Л–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –µ–є –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г. –Э–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Ї–∞ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –Ы–µ–ї—Г –Ј–∞ —А—Г–Ї—Г.
— –Ы–µ–ї–∞, —Н—В–Њ —В—Л?! –Я–Њ–є–і–µ–Љ —Б–Ї–Њ—А–µ–є —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є, –Т–∞—З–µ —А–∞–љ–µ–љ, —П –Ј–љ–∞—О, –≥–і–µ –Њ–љ
–ї–µ–ґ–Є—В.
–Э–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Њ —Б –ї–Є—Ж–∞, –Є –Ы–µ–ї–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞, —З—В–Њ
—Н—В–Њ –¶–∞–≥–Њ.
— –Т–∞—З–µ —А–∞–љ–µ–љ? –Ф–∞ –≥–і–µ –ґ–µ –Њ–љ?
–£–Љ–Є—А–∞—О—Й–Є–є –Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж –±—Л–ї –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–±—Л—В, –Є –Њ–±–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ
–≥–Њ—А–Њ–і—Г.
— –ѓ –Ј–∞—В–∞—Й–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–ї–∞—В—Л. –ѓ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ,
–Є—Б–Ї–∞–ї–∞ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞.
— –Ґ—П–ґ–µ–ї–Њ –Њ–љ —А–∞–љ–µ–љ?
— –ѓ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –љ–µ—В, –≤ –њ–ї–µ—З–Њ, — –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–ї–∞—Б—М –¶–∞–≥–Њ —Г—В–µ—И–Є—В—М –Ы–µ–ї—Г, —Е–Њ—В—П
–Ј–љ–∞–ї–∞, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Т–∞—З–µ. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–Ї—А–∞–ї–Є—Б—М –≤
–њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—Л–є –≤—Б–µ–Љ–Є –і–≤–Њ—А–µ—Ж, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –≤ –Ј–∞–ї, –≥–і–µ –¶–∞–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —А–∞–љ–µ–љ–Њ–≥–Њ.
–І—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –¶–∞–≥–Њ. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–µ
–Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ–Њ–љ—П—В—М —З—В–Њ –Є –≤–і—А—Г–≥ –Њ—Б—В–Њ–ї–±–µ–љ–µ–ї–∞, —Г–≤–Є–і–µ–≤ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–є
—Б–µ–±—П. –Ф–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г, –љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—Б–µ
—Б—А–∞–Ј—Г –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Є –≤—Б—В–∞–ї–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є –Љ–µ—Б—В–∞: —Д–Є–≥—Г—А–∞ –Ґ–Њ—А–µ–ї–Є, –ї–Є—Ж–Њ –¶–∞–≥–Њ –Є —О–љ–Њ—И–∞
–љ–∞ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А—Л—И–µ –і–Њ–Љ–∞. –Ю–љ –≤–µ—Б—М –Є –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Є —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ —В—П–љ–µ—В—Б—П –Ї –¶–∞–≥–Њ, –∞ –¶–∞–≥–Њ
–њ—А–Є–≤—Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞ —Ж—Л–њ–Њ—З–Ї–Є, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –њ–Њ–ї–µ—В–µ—В—М –Ј–∞ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–Љ —А—Л—Ж–∞—А–µ–Љ
—Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞, –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л–Љ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ –Ґ–Њ—А–µ–ї–Є. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –¶–∞–≥–Њ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞
–ґ–∞–ї–Њ—Б—В—М –Ї –Т–∞—З–µ, –Њ–љ–∞ –њ–Њ–љ—П–ї–∞, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –±—А–∞–ї–∞—Б—М –њ–µ—З–∞–ї—М, —В–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ –љ–∞–±–µ–≥–∞–≤—И–∞—П –љ–∞
–µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–Њ, –њ–Њ–љ—П–ї–∞, –Ї–∞–Ї—Г—О —З–Є—Б—В—Г—О, —Б–≤–µ—В–ї—Г—О –ї—О–±–Њ–≤—М –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї –Т–∞—З–µ –≤
—Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ.
–Ы–µ–ї–∞ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–Њ–є. –І—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б—В–Є –Є –≤—А–∞–ґ–і—Л
—И–µ–≤–µ–ї—М–љ—Г–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–µ–є.
— –У–і–µ –ґ–µ –Т–∞—З–µ? — –Ј–ї–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞.
–¶–∞–≥–Њ –Њ–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞—Б—М, –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л, –Њ–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Ї—А—Г–≥, –љ–Њ –Т–∞—З–µ –љ–µ
–±—Л–ї–Њ. –Т–і—А—Г–≥ —А–µ–Ј–Ї–Њ —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г–ї–∞—Б—М –і–≤–µ—А—М, –Є –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ –Ј–∞–ї—Л –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤–Є–Ј–Є—А—М
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞ –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–ї–Є –њ–Њ–і –µ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ, –Є –Њ–љ
–љ–µ—В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –Є—Е, –Њ–і–љ—Г –Є –і—А—Г–≥—Г—О.
— –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ, — —И–µ–њ–љ—Г–ї –≤–Є–Ј–Є—А—О –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–≤–Є—В—Л. —
–Э—Г–ґ–љ–Њ –≤–Ј—П—В—М –µ–µ –Є –Њ—В–≤–µ—Б—В–Є –Ї —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г. –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ —Б–Ї–∞–ґ–µ—В —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ.
–Т–Є–Ј–Є—А—М –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і —Б –ґ–Є–≤–Њ–є –¶–∞–≥–Њ –љ–∞ –µ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Њ —Б–µ–±—П —Г–ґ
–њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б—О—А–њ—А–Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ—Г. –Э–Њ –Є –≤—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –љ–Є—З—Г—В—М
–љ–µ —Е—Г–ґ–µ. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –ї—Г—З—И–µ–µ –≤—Б–µ –ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—О,
–Њ–љ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ–ї–µ–є –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
— –Т–Њ–Ј—М–Љ–Є—В–µ –Њ–±–µ–Є—Е –Є –Њ—В–≤–µ–і–Є—В–µ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ —И–∞—В–µ—А.
–Т —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ—Г –±—Л–ї–Њ –і–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Њ –њ–ї–µ–љ–µ–љ–Є–Є —А–µ–і–Ї–Њ–є
–Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж—Л, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ. –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ
—Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –љ–∞ –Ъ–∞—Е–µ—В–Є –Є –Ъ–∞—А—В–ї–Є. –Х–Љ—Г, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ
–љ–∞—Б–ї–∞–і–Є—В—М—Б—П —Б—В–Њ–ї—М –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–±—Л—З–µ–є, –љ–Њ –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—В–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –і–µ–ї–∞
—А–∞–і–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л.
— –Ю—В–Њ—И–ї–Є –µ–µ –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є–Ј, –≤ –Љ–Њ–є –≥–∞—А–µ–Љ, — –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ, —Б—В—А–Њ–≥–Њ –≥–ї—П–і—П –љ–∞
–®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї–∞. — –Ф–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–Є, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б–Љ–µ–ї –љ–∞ –љ–µ–µ
–≥–ї—П–і–µ—В—М.
–Т–Є–Ј–Є—А—М, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ.
–°—Г–ї—В–∞–љ —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є —Г—И–µ–ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і. –¶–∞–≥–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є–Ј –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б
—Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–∞–Љ–Є –У—А—Г–Ј–Є–Є –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—Е—А–∞–љ—Л. –Э–Њ–≤—Л–є —Г–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М
–Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї –Є–Ј–±—А–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–є —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —Ж–∞—А–Є—Ж—Л –†—Г—Б—Г–і–∞–љ.
–Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤–µ—З–µ—А. –°—Г–ї—В–∞–љ —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї —Г–ґ–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –і–Њ–≥–Њ—А–∞–ї–Є
–њ–Њ–ґ–∞—А—Л. –£–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—О –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –љ–µ—З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –≤ —Н—В–Њ—В —З–∞—Б, –Є –Њ–љ —А–µ—И–Є–ї
–Њ—В–і–∞—В—М –µ–≥–Њ –ї—О–±–≤–Є, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П —О–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —А—П–і–Њ–Љ, –Ј–і–µ—Б—М
–ґ–µ –≤–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–µ, –Є –Њ–љ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ–±—Л –µ–µ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є. –Х–Љ—Г –љ–µ
—В–µ—А–њ–µ–ї–Њ—Б—М —Г–≤–Є–і–µ—В—М –њ–ї–µ–љ–љ–Є—Ж—Г. –Ю–љ –љ–µ—А–≤–љ–Њ —И–∞–≥–∞–ї –Є–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—Ж –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л –њ–Њ
–Љ—П–≥–Ї–Њ–Љ—Г –≥–ї—Г—Е–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–≤—А—Г.
–Ф–≤–µ—А—М –Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞—Б—М, –Є –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –Ы–µ–ї–∞. –Ю–љ–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Е—Г–і–µ–ї–∞ –Њ—В
—В–Њ—Б–Ї–Є –Є –≥–Њ—А—П, –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –µ–µ –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ—Г—Й–µ–љ—Л, –∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Є, —В–Њ—З–љ–Њ —Г —А—Л—Б–Є,
–њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–µ–є—Б—П –љ–∞–њ–∞—Б—В—М. –Т—Б–µ –µ–µ —В–µ–ї–Њ –і—А–Њ–ґ–∞–ї–Њ –Њ—В –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ–∞
–≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї –ї—О–±–Њ–Љ—Г —А—Л–≤–Ї—Г, –њ—А—Л–ґ–Ї—Г, –Ї –ї—О–±–Њ–Љ—Г —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–Ј–Є—А—М –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Ы–µ–ї—Г, —Г –љ–µ–µ –љ–∞ –ї–Є—Ж–µ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–±—А–Њ–µ –Є
–њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–∞ –ґ–∞–ї–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –Є
—В—А–µ–≤–Њ–≥–Є. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –љ–∞ –ї–Є—Ж–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ј–ї–Њ—Б—В–Є.
–Э–Њ —Н—В–Њ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –µ–Љ—Г
–њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Љ–µ—В—М –і–µ–ї–Њ —Б –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –Є –њ–Њ–і–∞—В–ї–Є–≤—Л–Љ–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є.
–Э–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Њ–љ —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –Њ–±–Њ–і—А–Є—В—М –≤–Њ—И–µ–і—И—Г—О. –Ы–µ–ї–∞ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –љ–Є
—Б–ї–Њ–≤–∞, –љ–Њ –≤–µ—Б—М –≤–Є–і –≤–Є–Ј–Є—А—П, –µ–≥–Њ –ґ–µ—Б—В—Л, –µ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤—Б–µ
—Б–ї–Њ–≤–∞. –Т–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ –Ы–µ–ї–∞ —Б–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї –Њ—В–њ–Њ—А—Г. –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї
–њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О, —Б–Љ–µ–ї—Л–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б–Ї–Є–Љ –ґ–µ—Б—В–Њ–Љ –Њ—В–Ї–Є–љ—Г–ї –љ–∞–Ј–∞–і –µ–µ —А–∞—Б–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–µ
–≤–Њ–ї–Њ—Б—Л, –њ–Њ–і–љ—П–ї –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –њ–Њ–і–±–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Є –њ–Њ–≥–ї—П–і–µ–ї –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞. –Ы–µ–ї–∞ –Ј–∞–і—Л—И–∞–ї–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ
–Є —З–∞—Б—В–Њ. –Ю–љ–∞ –≤–і—А—Г–≥ –Њ—В—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–∞ —А—Г–Ї—Г –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –Є –Љ–µ—В–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Г—О
—Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ј–∞–ї–∞.
–®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П. –Ю–љ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –µ–є –љ–µ–Ї—Г–і–∞
–±–µ–ґ–∞—В—М, –∞ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–ґ–Є–≥–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ. –Ь–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ,
–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–Љ, –љ–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –љ–∞–µ–Ј–і–љ–Є–Ї –Ї –љ–Њ—А–Њ–≤–Є—Б—В–Њ–є
–љ–µ–Њ–±—К–µ–Ј–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Њ—И–∞–і–Є, –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—И–µ–ї –Ї –≥—А—Г–Ј–Є–љ–Ї–µ. –Ю–љ —Е–Њ—В–µ–ї –Њ–±—Е–≤–∞—В–Є—В—М –µ–µ
–њ–Њ–њ–µ—А–µ–Ї —В–µ–ї–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є —А—Г–Ї–Њ–є, –љ–Њ –Ы–µ–ї–∞ –≤—Л–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є —В–∞–Ї –Њ—В—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–∞
–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —А–∞—Б—В—П–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г.
–Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —И—Г—В–Ї–Є –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М. –Т–Є–Ј–Є—А—М –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–ї, –љ–∞–њ–∞–ї –љ–∞ –Ы–µ–ї—Г, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ
—Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–Љ–∞—Е–љ—Г–ї—Б—П, –Є –Ы–µ–ї–∞ –Ј–∞–±–µ–≥–∞–ї–∞, –Ј–∞–Љ–µ—В–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–ї—Г, –Ї–∞–Ї
–ї–∞—Б—В–Њ—З–Ї–∞, –Ј–∞–ї–µ—В–µ–≤—И–∞—П –≤ —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В–µ–љ—Л –Є–Ј –љ–µ–Њ–≥–ї—П–і–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–≤ —Б–Є–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–±–∞.
–†–∞–Ј—К—П—А–µ–љ–љ—Л–є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –≥–Њ–љ—П–ї—Б—П –Ј–∞ –љ–µ–є, —Б—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї –≤ –Њ—Е–∞–њ–Ї—Г –Є —В–∞—Й–Є–ї –Ї
–њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є, –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–≤–∞–ї–Є—В—М –љ–∞ –њ–Њ–ї, –љ–Њ –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —А–∞–Ј—К—П—А–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ
–љ–∞—Б–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞, —Ж–∞—А–∞–њ–∞–ї–∞—Б—М, –Ї—Г—Б–∞–ї–∞—Б—М, –≤–љ–Њ–≤—М –≤—Л—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–∞ –≤
–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ —В–Є—Б–Ї–Є –Њ–±—К—П—В–Є–є. –Ю–і–µ–ґ–і–∞ –љ–∞ –љ–µ–є —А–≤–∞–ї–∞—Б—М, –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ–≥–Њ–ї—П—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–µ
–±–µ–ї–Њ–µ —В–µ–ї–Њ. –Т–Є–Ј–Є—А—М, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є —Б–ї—Л—И–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, —Б—В–µ—А–≤–µ–љ–µ–ї –µ—Й–µ
–±–Њ–ї—М—И–µ, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ –Є —Б–ї–∞–±–µ–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –љ–∞—В–Є—Б–Ї–∞.
–Ш –≤—Б–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П, –љ–Њ –Ы–µ–ї–∞ —Б–Њ–±—А–∞–ї–∞ –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–Є–ї—Л –Є
—А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –Њ—В—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –і—Л—И–∞–≤—И–µ–≥–Њ, –љ–∞–≤–∞–ї–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –љ–µ–µ
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤—Л—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї–∞ –Є –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї. –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї —Б–Њ
—Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є: «...–љ—Г –Ї—Г–і–∞ —В—Л –Њ—В –Љ–µ–љ—П –і–µ–љ–µ—И—М—Б—П, –і—Г—А–Њ—З–Ї–∞», — –њ–Њ—И–µ–ї –Ї –љ–µ–є —Б
–њ—А–Њ—В—П–љ—Г—В—Л–Љ–Є –і–ї—П –Њ–±—К—П—В–Є–є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –Ы–µ–ї–∞ –Њ—В–њ—А—П–љ—Г–ї–∞ –љ–∞–Ј–∞–і –Њ—В —Н—В–Є—Е –ґ–∞–і–љ—Л—Е
—В—П–љ—Г—Й–Є—Е—Б—П —А—Г–Ї, —Г–і–∞—А–Є–ї–∞—Б—М —Б–њ–Є–љ–Њ–є –Њ –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В, –Њ–Ї–љ–Њ —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М, –Є, –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤
–і–∞–ґ–µ –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–љ—Г—В—М, –Ы–µ–ї–∞ –њ–Њ–ї–µ—В–µ–ї–∞ –≤–љ–Є–Ј. –Э–µ —Г—Б–њ–µ–ї –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–љ—Г—В—М –Є –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї.
–†–∞–љ–µ–љ—Л–є –Т–∞—З–µ –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ —А—Г–Ї–Є —Б—Г–ї—В–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –ї–µ–Ї–∞—А–µ–є. –Ю–љ–Є –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є –Ї —А–∞–љ–µ
–Љ–∞–Ј–Є, –њ–Њ–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –Њ–Ї—Г—А–Є–≤–∞–ї–Є —В—А–∞–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Г–±–Њ–є.
–С–Њ–ї—М –Ј–∞—В–Є—Е–ї–∞, –Є —А–∞–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М. –°–Ї–Њ—А–Њ –Њ–љ–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ј–∞—В—П–љ–µ—В—Б—П, –Є
–Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —А–∞–љ—Л –Њ–і–Є–љ —А—Г–±–µ—Ж. –Э–Њ –љ–µ —А–∞–і—Г–µ—В –Т–∞—З–µ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–µ
–Є–Ј–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ. –Ю–љ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–∞–љ–µ—В —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—Б—П
–њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞.
–Ъ–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –±—Л–ї–Њ –±—Л —В—П–ґ–µ–ї–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Њ –Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –Т–∞—З–µ –µ—Й–µ
—В—П–ґ–µ–ї–µ–є. –Ю–љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї. –Ю–љ –≤–Є–і–Є—В –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–µ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —В–Њ–ґ–µ
—Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е.
–Я—А–Њ–є–і–µ—В –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є, –Є –њ–Њ–Љ–µ—А–Ї–љ–µ—В —Б–≤–µ—В, –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–Є –ї—Г–љ—Л, –љ–Є
—Б–Њ–ї–љ—Ж–∞, –љ–Є –Ј–≤–µ–Ј–і, –љ–Є –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ–≤, –љ–Є —Б–Є–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–±–∞. –Ш—Б—З–µ–Ј–љ—Г—В —Н—В–Є –ї–∞—Б–Ї–∞—О—Й–Є–µ
–≤–Ј–≥–ї—П–і —Е–Њ–ї–Љ–Є—Б—В—Л–µ –≥–Њ—А—Л, —Н—В–∞ —Б–Є–љ–µ–≤–∞, —А–∞–Ј–ї–Є—В–∞—П –њ–Њ –≥–Њ—А–∞–Љ, —Н—В–∞ –Ј–µ–ї–µ–љ—М, —З—В–Њ
–Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–∞ –њ–Њ–ї–µ, —Н—В–∞ –Є–≥—А–∞ —Б–≤–µ—В–∞ –Є —В–µ–љ–Є... –†–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є—В—М –≤—Б–µ, —З—В–Њ
–њ–Њ—В–µ—А—П–µ—В –Т–∞—З–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—Б—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞.
–Т–∞—З–µ –ї–µ–ґ–∞–ї –≤ –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є –Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ –Њ–Ї–љ–Њ –љ–∞ –Ъ—Г—А—Г. –Ю–±—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –≤–µ—З–љ—Г—О
—В–µ–Љ–љ–Њ—В—Г, –Њ–љ –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й–µ —Г–њ–Є–≤–∞–ї—Б—П –ґ–Є–≤—Л–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–ї–љ, –Є—Е –њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞–Љ–Є, –Є—Е
–±–ї–µ—Б–Ї–Њ–Љ, –Є—Е –љ–µ–Є—Б—Б—П–Ї–∞–µ–Љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –Т–Њ–ї–љ—Л –љ–∞–±–µ–≥–∞—О—В, –Њ–±–≥–Њ–љ—П—О—В, –Ј–∞—Е–ї–µ—Б—В—Л–≤–∞—О—В
–Њ–і–љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О, –Ј–∞–≤–Є—Е—А—П—О—В—Б—П, –Ї—А—Г–ґ–∞—В—Б—П, –њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П, –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –і–µ–ї–∞—В—М –≤—Б–µ,
—З—В–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ, –њ—А–Є —Б–≤–Њ–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–њ–µ—А–µ–і. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –і–∞–љ–Њ –Є–Љ –і–µ–ї–∞—В—М —
–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –љ–∞–Ј–∞–і.
–Ч–∞ —А–µ–Ї–Њ–є –±—Л–ї–∞ –≤–Є–і–љ–∞ —З–∞—Б—В—М —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –Ъ–Њ–µ-–≥–і–µ –µ—Й–µ –і—Л–Љ–Є–ї–Є—Б—М
–і–Њ—В–ї–µ–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ–ґ–∞—А—Л, –∞ —В–µ –і–Њ–Љ–∞, —З—В–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Б–≥–Њ—А–µ–ї–Є, —Б—В–Њ—П–ї–Є —В–µ–њ–µ—А—М –±–µ–Ј –Ї—А—Л—И,
–±–µ–Ј –Њ–Ї–Њ–љ, –Њ–њ–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є –љ–µ–Љ—Л–µ. –° —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г –±—Л–ї–Є —Б–Њ—А–≤–∞–љ—Л –Ї—А–µ—Б—В—Л –Є
–Ї—Г–њ–Њ–ї–∞. –Я—А–Є –≤–Є–і–µ —Н—В–Є—Е —Г–ґ–∞—Б–љ—Л—Е —Б–Ї–µ–ї–µ—В–Њ–≤ (–∞ –µ—Б–ї–Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П, —В–Њ –≤–µ—Б—М
–Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–і–Є–љ –Њ–±–≥–ї–Њ–і–∞–љ–љ—Л–є —Г—А–Њ–і–ї–Є–≤—Л–є —Б–Ї–µ–ї–µ—В) –Т–∞—З–µ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –і—А–Њ–ґ—М
–Є –њ—А–Њ–Ї–ї—П–ї —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В–Њ—В –љ–µ –і–Њ–±–Є–ї –µ–≥–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –ґ–µ –і–µ–љ—М –Є
—З–∞—Б, –Є–ї–Є —З—В–Њ –љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г –њ—А–Є–≤–µ–ї –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А. –Я–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ,
–Т–∞—З–µ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї –±—Л —Г–≤–Є–і–µ—В—М –љ–∞–і—А—Г–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞–і —А–Њ–і–љ—Л–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ, –Є –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є
–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –±—Л –≤ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –≤–µ–ї–Є—З–∞–≤—Л–Љ –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ.
–Ы—Г—З—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –±—Л–ї –≤–Є–і–µ–љ –Т–∞—З–µ –і–≤–Њ—А–µ—Ж –†—Г—Б—Г–і–∞–љ. –Э–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–ї–µ –Њ–љ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ
–≤–Ј–ї–µ—В–µ–ї –Ї –Њ–±–ї–∞–Ї–∞–Љ, –і–∞ —В–∞–Ї –Є –Ј–∞—Б—В—Л–ї –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—Л–≤–µ.
–Э–Є –њ–Њ–ґ–∞—А—Л, –љ–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –љ–µ —В—А–Њ–љ—Г–ї–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞. –Ю–љ –Њ–і–Є–љ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї—Б—П
—Б—А–µ–і–Є –≥–Њ–ї—Л—Е –Є —З–µ—А–љ—Л—Е —Б—В–µ–љ, —Б—А–µ–і–Є –Љ—А–∞—З–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Є
–Њ—В—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –µ—Й–µ —З—Г–і–µ—Б–љ–µ–µ –Є —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–µ–µ.
–Ф–∞, –і—Г–Љ–∞–ї –Т–∞—З–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї —А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г –Є
—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –У–Њ—З–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ. –Х—Б–ї–Є –Є –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—И—М –њ—А–Є–і—А–∞—В—М—Б—П –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М
–і–µ—В–∞–ї–Є, –љ–µ –љ–∞–є–і–µ—И—М –Є–Ј—К—П–љ–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ. –Т–Њ–љ –Њ–Ї–љ–Њ, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–∞–і–∞–µ—В
—В–µ–њ–µ—А—М —Б–≤–µ—В –љ–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г. –≠—В–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —В–Њ–ґ–µ –Њ–љ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —Г–≤–Є–і–Є—В –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞.
–£–Ј–Ї–Њ–µ –Њ–Ї–љ–Њ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —В–µ–њ–µ—А—М —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –Т–∞—З–µ, –≤–і—А—Г–≥ —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г–ї–Њ—Б—М, –Є –Є–Ј
–Њ–Ї–љ–∞ –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –∞–љ–≥–µ–ї, –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є, —Б —А–∞–Ј–≤–µ–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є
–≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є. –Р–љ–≥–µ–ї –љ–µ –≤–Ј–Љ–∞—Е–љ—Г–ї –Ї—А—Л–ї—М—П–Љ–Є, –Њ–љ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –≤–љ–Є–Ј –љ–∞ –≤–Њ–і—Л –Ъ—Г—А—Л –Є
—Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –Є–Ј –≥–ї–∞–Ј, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–Є–ї—Б—П –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ. –Ш–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –≤—Л—Б—Г–љ—Г–ї—Б—П
–Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞, –љ–Њ —В–Њ—В—З–∞—Б –Њ—В—И–∞—В–љ—Г–ї—Б—П –Є —В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ –Є—Б—З–µ–Ј, –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–љ—Г–≤ –Њ–Ї–љ–Њ.
–¶–∞–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П —Б–∞–Љ–Њ–є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–є –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і–≤–∞
–µ–µ –±—А–∞—В–∞, –Я–∞–≤–ї–Є–∞ –Є –Ь–∞–Љ—Г–Ї–∞, –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –њ—А–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Ь—Г–ґ –≤
–њ–ї–µ–љ—Г, –Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б –љ–Є–Љ. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б—Л–љ —В–Њ–ґ–µ –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –±–µ–Ј
–њ—А–Є—Б–Љ–Њ—В—А–∞, —Б—А–µ–і–Є –Ї—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–і–љ—Л—Е –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ—Л—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤. –Р —Б–∞–Љ—Г –µ–µ –≤–µ–Ј—Г—В –≤ –Ґ–∞–≤—А–Є–Ј,
–≤ –≥–∞—А–µ–Љ —А–∞–Ј–Њ—А–Є—В–µ–ї—П –У—А—Г–Ј–Є–Є, –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤—Б–µ—Е –±–µ–і –Є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–Є–є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–љ–∞—А–Њ–і–∞.
–° –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –њ–ї–µ–љ–∞ –¶–∞–≥–Њ —Б—В–∞–ї–∞ –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ, –љ–Њ –ї—О–і–Є,
–њ—А–Є—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї –љ–µ–є, –±—Л–ї–Є –і–Њ–≥–∞–і–ї–Є–≤—Л –Є –Ј–Њ—А–Ї–Є. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Њ–љ–Є –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –≥–љ–µ–≤–∞
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞, –∞ —Н—В–Њ —Г–і–µ—Б—П—В–µ—А—П–ї–Њ –Є—Е –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–∞
–¶–∞–≥–Њ –Є –≤ —З–µ–Љ –µ–є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–Љ–µ—И–∞—В—М, — –Љ–Њ—А–Є—В—М —Б–µ–±—П –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ. –Ю–љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ
–≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –µ–і—Л, –љ–µ –њ–Є–ї–∞, –љ–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞ —Г –љ–µ–є –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ, –Є
–њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –µ—Б—В—М –Є –њ–Є—В—М.
–Т —Б–∞–Љ–Њ–є –љ–µ–њ—А–Њ–≥–ї—П–і–љ–Њ–є —В—М–Љ–µ —В–Њ—Б–Ї–Є –Є –≥–Њ—А—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В—Л—Й–µ—В—Б—П –Њ–≥–Њ–љ–µ–Ї
–љ–∞–і–µ–ґ–і—Л. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Ґ—Г—А–Љ–∞–љ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –ґ–Є–≤, –љ–∞–і–µ—П–ї–∞—Б—М –¶–∞–≥–Њ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М,
–Я–∞–≤–ї–Є–∞ —Б—Г–Љ–µ–ї —Б–њ—А—П—В–∞—В—М—Б—П –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є —В–µ–њ–µ—А—М –≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–µ
–њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ—В –Є –і—А—Г–≥–Њ–є –±—А–∞—В, –Ј–ї–∞—В–Њ–Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж –Ь–∞–Љ—Г–Ї–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–∞–є–і—Г—В—Б—П –і–Њ–±—А—Л–µ
–ї—О–і–Є, —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є—О—В—П—В –µ–µ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞, –Є –Њ–љ —Г—Ж–µ–ї–µ–µ—В –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–µ–Ї–ї–µ, –≤
—Н—В–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П –≤ —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–є —Е–∞–Њ—Б. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –љ–µ –±—А–µ–Ј–ґ–Є–ї–Њ
–љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л, —Н—В–Њ –Њ–і–љ–Њ –Ї–∞—Б–∞–ї–Њ—Б—М –µ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є. –Ю–љ–∞ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–∞, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –µ–µ —Б
—В–∞–Ї–Є–Љ –њ–Њ—З–µ—В–Њ–Љ –Є —В–∞–Ї –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –≤–µ–Ј—Г—В –≤ –Ш—А–∞–љ. –Х–µ –ї–µ–ї–µ—О—В –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л
—Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є—Ж–µ–є —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞. –°–Ї–Њ—А–Њ –±—Г–і–µ—В –Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ—Г—В–Є, –Є –¶–∞–≥–Њ –≤–≤–µ–і—Г—В –≤ –≥–∞—А–µ–Љ,
–≥–і–µ —Г–ґ–µ —В–Њ–Љ—П—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –≤ —В—О—А—М–Љ–µ, –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –µ–µ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж, –Є –і–∞–ґ–µ —Е—Г–ґ–µ, —З–µ–Љ
–≤ —В—О—А—М–Љ–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ —В—О—А—М–Љ–µ –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–µ–ї–Є—В—М –љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –ї–Њ–ґ–∞ —Б –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–љ—Л–Љ
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Є –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –њ–Њ–љ—П—В–Є—П–Љ –Њ —З–µ—Б—В–Є. –Я—А–Њ–є–і–µ—В
–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є, –Є –¶–∞–≥–Њ –±—Г–і–µ—В –Њ–±–µ—Б—З–µ—Й–µ–љ–∞, –Є –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –љ–∞–і–µ–ґ–і, —З—В–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ
–љ–µ —Б–ї—Г—З–Є—В—Б—П.
–Ь—Л—Б–ї—М –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П—Е —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –µ–µ –≤ –±—А–µ–Ј–≥–ї–Є–≤–Њ–µ
—Б–Њ–і—А–Њ–≥–∞–љ–Є–µ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —З—В–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ –≤—Л—В–µ—А–њ–µ—В—М —А–∞–і–Є –Љ–Є–љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є—П —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ,
–Є–ї–Є —Б—Л–љ–Њ–Љ, –Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –±—А–∞—В—М—П–Љ–Є, –љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—Л—В–µ—А–њ–µ—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Ы—Г—З—И–µ –ї–Є—И–Є—В—М
—Б–µ–±—П –≤—Б—П–Ї–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –Є —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–Њ–≥–∞—Б–Є—В—М —В–Њ—В —Б–ї–∞–±—Л–є –Є —А–Њ–±–Ї–Є–є –Њ–≥–Њ–љ–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є
–ї—Г–Ї–∞–≤–Њ —Б–≤–µ—В–Є—В –≤–Њ —В—М–Љ–µ! «–ѓ –љ–∞–є–і—Г —Б–њ–Њ—Б–Њ–± —Г–±–Є—В—М —Б–µ–±—П, –µ—Б–ї–Є –і–µ–ї–Њ –і–Њ–є–і–µ—В –і–Њ
–Њ–±—К—П—В–Є–є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–∞». –£—В–≤–µ—А–і–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —Н—В–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є, –¶–∞–≥–Њ
–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–∞—Б—М. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Љ—Л—Б–ї–Є —В–µ—Б–љ—П—В—Б—П –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ
–Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–є—И–µ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –У—А—Г–Ј–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Ж–∞—А–Є—Ж—Г, –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є
–±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ–є —Б–≤–Є—В—Л –Є –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ–є –Њ—Е—А–∞–љ—Л —Г–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –≤—Б–µ –і–∞–ї—М—И–µ –Є –і–∞–ї—М—И–µ –љ–∞ —О–≥.
–Т—Л–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П –Є–Ј –њ–∞–ї–∞–љ–Ї–Є–љ–∞, –¶–∞–≥–Њ —Б –≥—А—Г—Б—В—М—О –Њ–Ј–Є—А–∞–ї–∞ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј—П—Й–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ
–Њ—Б—В–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ –≥–Њ—А—Л –Є —А–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є–µ—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –±–µ—Б–Ї—А–∞–є–љ–Є–µ
–њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є. –Ш–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М —Б–∞–і—Л, –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є—Б—М —А–µ–Ї–Є.
–¶–∞–≥–Њ –і—Г–Љ–∞–ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є –Ґ—Г—А–Љ–∞–љ–∞ –≤–µ–Ј–ї–Є –њ–Њ —Н—В–Њ–є –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є
–і–Њ—А–Њ–≥–µ –Є —З—В–Њ –≤—Б–µ, —З—В–Њ –≤–Є–і–Є—В —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ–∞, –≤–Є–і–µ–ї –Є –Њ–љ –Є –і—Г–Љ–∞–ї –Њ –љ–µ–є, –Њ –¶–∞–≥–Њ,
–Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ —Б–µ–є—З–∞—Б –і—Г–Љ–∞–µ—В –Њ –љ–µ–Љ.
–¶–∞–≥–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –µ–Ј–і–Є–ї–∞ –і–∞–ї—М—И–µ –Р—Е–∞–ї–і–∞–±—Л –Є –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –Ґ–Њ—А–Є –Є –Р—Е–∞–ї—Ж–Є—Е–µ.
–Ю–љ–∞ –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Љ–Є—А —Б—В–Њ–ї—М –≤–µ–ї–Є–Ї, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –µ—Е–∞—В—М –Є –µ—Е–∞—В—М –Є –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М
–Ї–Њ–љ—Ж–∞ –њ—Г—В–Є, –∞ –±–µ–ї–Њ–Љ—Г —Б–≤–µ—В—Г — –Ї—А–∞—П. –¶–∞–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –Ј–∞–≥–Њ—А–∞–ї–Є—Б—М
–њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ—Л–µ –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л –Є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–µ–±–Њ —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–µ
–ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ. –° –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –і–љ–µ–Љ –њ—Г—В–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –ґ–∞—А—З–µ –Є –ґ–∞—А—З–µ. –°—В–∞–ї–Њ
—В—А—Г–і–љ–Њ –і—Л—И–∞—В—М, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –ґ–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—В–µ—А–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є–ї–µ—В–∞–µ—В –≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є —Б
–Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—А, –Є–Ј –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є –≤–µ—П–ї–Њ –≥–Њ—А—П—З–Є–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ, —В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –ї–µ–ґ–∞–ї–Є
—А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Г–≥–ї–Є –Є –Њ—В –љ–Є—Е-—В–Њ –Є —В—П–љ—Г–ї–Њ –љ–µ—Б—В–µ—А–њ–Є–Љ—Л–Љ –Є—Б—Б—Г—И–∞—О—Й–Є–Љ –ґ–∞—А–Њ–Љ. –С–µ–ї—Л–µ
–Њ–±–ї–∞–Ї–∞ –У—А—Г–Ј–Є–Є –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ —Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –Є–Ј –≥–ї–∞–Ј.
–Я–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –њ–Њ–і –Њ—Е—А–∞–љ–Њ–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –¶–∞–≥–Њ, —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–µ–±—П –≤—Б–µ
—Е—Г–ґ–µ. –Ю–љ–Є —Б—В–Њ–љ–∞–ї–Є, –њ–∞–і–∞–ї–Є –љ–∞ —Е–Њ–і—Г, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П, –≤–Њ–њ–ї–Є,
–њ–ї–∞—З.
–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ—А–Є–≤–∞–ї —Г —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –±—Л—Б—В—А–Њ–є —А–µ–Ї–Є. –Э–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г
—А–Њ—Б–ї–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–ї–Є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—А–µ–≤—М—П, –±—Л–ї–∞ —В–µ–љ—М, –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–∞, –Є –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ
–≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї–Є. –Э–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ, –љ–Њ –Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є–Љ —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–∞–Љ –±—Л–ї–∞
–њ—А–Є—П—В–љ–∞ –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–∞. –Ю–љ–Є –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –≤ —В–µ–љ–Є –Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –і–љ—П –Є –Ј–і–µ—Б—М –ґ–µ —А–µ—И–Є–ї–Є
–љ–Њ—З–µ–≤–∞—В—М. –Э–Є—З—В–Њ –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Њ –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і–љ–µ–є –њ—Г—В–Є, –Є –Њ—Е—А–∞–љ–∞
—А–∞—Б—Б–ї–∞–±–Є–ї–∞—Б—М, —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—В—Г–њ–Є–ї–Њ—Б—М –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ. –°–ї–Њ–ґ–Є–≤
–Њ—А—Г–ґ–Є–µ –≤ –Ї—Г—З—Г, –≤–Њ–Є–љ—Л —Б –≤–µ—З–µ—А–∞ –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М —Б–њ–∞—В—М, –љ–∞–і–µ—П—Б—М –Ї —Г—В—А—Г —Е–Њ—А–Њ—И–µ–љ—М–Ї–Њ
–≤—Л—Б–њ–∞—В—М—Б—П.
–¶–∞–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ –µ–і–≤–∞ –і–Њ–љ–µ—Б–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –і–Њ –њ–Њ–і—Г—И–Ї–Є. –Т–Њ —Б–љ–µ –Њ–љ–∞ —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ –Ї–∞–Ї
–±—Г–і—В–Њ –±—Л —А–Њ–і–љ—Л–µ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞. –Ю–љ–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ–њ–µ–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤–Њ —Б–љ–µ –Є
–Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –≤—Б–µ —Б–њ–∞–ї–Є. –Э–∞ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П —Е—А–∞–њ
—З–∞—Б–Њ–≤—Л—Е. –¶–∞–≥–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Є —З—Г—В–Ї–Њ –≤—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Г –Є —В–Є—И–Є–љ—Г –љ–Њ—З–Є. –Х–є
—З—Г–і–Є–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —И–Њ—А–Њ—Е–Є, —И–∞–≥–Є, –µ–і–≤–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–Љ—Л–є —И–µ–њ–Њ—В.
–Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ —В–Є—И–Є–љ–∞ –Њ–±–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Я–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї—Б—П –љ–µ—П—Б–љ—Л–є –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—О—Й–Є–є –≥—А–Њ—Е–Њ—В,
—Д–∞–Ї–µ–ї—Л –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї–Є—Б—М –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ, –Ј–∞–Љ–µ–ї—М–Ї–∞–ї–Є, –Ј–∞–±–µ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –≤—Б–µ
–њ—А–Њ—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Ї–Њ–љ—Б–Ї–Є–є —В–Њ–њ–Њ—В, –≤ –±—А—П—Ж–∞–љ–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ї—А–Є–Ї–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ:
— –Т–∞—И–∞, –±–µ–є, —А—Г–±–Є! –Т–∞—И–∞!
–•–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж—Л –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –Њ–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М—Б—П –Њ—В–Њ —Б–љ–∞, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є –њ–Њ–і —Б–∞–±–ї—П–Љ–Є
–љ–Њ—З–љ—Л—Е –љ–∞–ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤. –Т –Њ–і–Є–љ –Љ–Є–≥ –≤—Б—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –і–Њ–±—Л—З–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–µ–Ј–ї–Є
—Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж—Л, –Є –≤—Б–µ –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г –Њ—В—А—П–і—Г –≥—А—Г–Ј–Є–љ.
— –Ц–Є–≤—Л–µ, —Б–њ–∞—Б–∞–є—В–µ—Б—М, –Ї—В–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В! — –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј
–≥—А—Г–Ј–Є–љ, –Є –≥–Њ–ї–Њ—Б –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –¶–∞–≥–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ. –Ю–љ–∞ –≤—Л—Б—Г–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є–Ј
—Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л—Е –љ–Њ—Б–Є–ї–Њ–Ї –Є –≤ –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –Њ—В–±–ї–µ—Б–Ї–∞—Е —Д–∞–Ї–µ–ї–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞ –≤–Њ–Є–љ–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ
—Б –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–є –Ї–≤–µ—А—Е—Г —Б–∞–±–ї–µ–є. –Ґ–Њ—В—З–∞—Б –Њ–љ–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї–∞ –У–Њ—З–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ.
— –У–Њ—З–Є, –У–Њ—З–Є! — –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –Є —В—Г—В –ґ–µ –Ј–∞–±–Є–ї–∞—Б—М –≤ –њ—А–Є–њ–∞–і–Ї–µ —А—Л–і–∞–љ–Є–є.
–Т—Б–µ, —З—В–Њ –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –і—Г—И–µ –Ј–∞ —Н—В–Є –і–љ–Є, –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞—А—Г–ґ—Г. –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ
–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Є–ї –Ї–Њ–љ—П, –≤ –і–≤–∞ –њ—А—Л–ґ–Ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–∞–ї–∞–љ–Ї–Є–љ–∞.
— –¶–∞–≥–Њ, –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–∞—П, –Ї–∞–Ї —В—Л —Б—О–і–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞? — –У–Њ—З–Є –њ–µ—А–µ–≥–љ—Г–ї—Б—П —Б –Ї–Њ–љ—П –Є
–≤—Л—В–∞—Й–Є–ї –¶–∞–≥–Њ –Є–Ј –љ–Њ—Б–Є–ї–Њ–Ї, –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї –µ–µ —Б–Ј–∞–і–Є —Б–µ–±—П –љ–∞ –ї–Њ—И–∞–і–Є–љ—Л–є –Ї—А—Г–њ. –¶–∞–≥–Њ
—Б—Г–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–≤–Є–ї–∞ —А—Г–Ї–∞–Љ–Є —Б–Є–і—П—Й–µ–≥–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Г. — –Ъ—Г–і–∞ —В–µ–±—П –Њ—В–≤–µ–Ј—В–Є, –≥–і–µ
—В–≤–Њ–є –і–Њ–Љ?
— –Э–µ—В —Г –Љ–µ–љ—П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є –і–Њ–Љ–∞, –љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є. –Ъ—Г–і–∞ –≤—Б–µ, —В—Г–і–∞ —Б –≤–∞–Љ–Є –Є —П.
— –Ы–∞–і–љ–Њ, –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ. — –У–Њ—З–Є –і–µ—А–љ—Г–ї –Ї–Њ–љ—П, –Є –Њ–љ –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Г
–Є–Ј —В—А–µ–њ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј—А–∞—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞ –і–Њ–≥–Њ—А–∞—О—Й–Є—Е —Д–∞–Ї–µ–ї–Њ–≤.
–Т–Њ–Є–љ—Л –У–Њ—З–Є –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є –Њ—В–±–Є—В—Л–µ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ–є. –Я–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–≤—И–Є–µ
–њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ї –Њ—В—А—П–і—Г, —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–µ—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј—А—Г–±–ї–µ–љ–љ—Л—Е
—Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤. –Ю—В—А—П–і —Б–µ–ї –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ–є –Є –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –≤ –њ—Г—В—М. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –љ–µ
–Ј–∞—Е–Њ—В–µ–≤—И–Є–µ –±—А–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, —А–∞–Ј–±—А–µ–ї–Є—Б—М –Ї—В–Њ –Ї—Г–і–∞. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –≤—Л–±—А–∞–ї —Б–µ–±–µ —Б–≤–Њ—О
–і–Њ—А–Њ–≥—Г.
–Ю—В—А—П–і –Љ—З–∞–ї—Б—П –≥–∞–ї–Њ–њ–Њ–Љ –≤ –Ї—А–Њ–Љ–µ—И–љ–Њ–є –љ–Њ—З–Є. –Ю–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –љ–∞—В–Ї–љ—Г—В—М—Б—П –љ–∞
—Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤, –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Л –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –і–Њ—А–Њ–≥, –Љ—З–∞–ї–Є—Б—М
–Њ–њ—Г—И–Ї–∞–Љ–Є –ї–µ—Б–∞ –њ–Њ —Г–Ј–Ї–Є–Љ –љ–µ—Е–Њ–ґ–µ–љ—Л–Љ —В—А–Њ–њ–Є–љ–Ї–∞–Љ. –Я—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ–Є —Б–∞–Љ–Є –≤—Л–±–Є—А–∞–ї–Є,
–≥–і–µ –Є–Љ —Б–Ї–∞–Ї–∞—В—М, –Є —Б–Ї–∞–Ї–∞–ї–Є –њ–Њ –±–µ–Ј–і–Њ—А–Њ–ґ—М—О, –њ–Њ –Ї—А–∞—О –Њ–њ–∞—Б–љ—Л—Е –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В–µ–є.
— –Ю –Љ–Њ–є —Б—Л–љ! — –≤—Б—Е–ї–Є–њ–љ—Г–ї–∞ –¶–∞–≥–Њ, –≤—Б–µ –Ї—А–µ–њ—З–µ –і–µ—А–ґ–∞—Б—М –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ
—Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П.
–У–Њ—З–Є, —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ —Б–Ї–∞—З–Ї–µ, –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї.
— –•–Њ—В—М –±—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –ґ–Є–≤—Л –Я–∞–≤–ї–Є–∞ –Є –Ь–∞–Љ—Г–Ї–∞.
— –С–Њ–≥ –і–∞—Б—В, –Њ—Б—В–∞–љ—Г—В—Б—П –ґ–Є–≤—Л, — –Њ–±–Њ–і—А–Є–ї –У–Њ—З–Є —Б–≤–Њ—О —Б–њ—Г—В–љ–Є—Ж—Г, —Е–Њ—В—П
–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Г—Ж–µ–ї–µ—В—М –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є.
–¶–∞–≥–Њ –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Є–і–µ—В—М –љ–∞ –Ї—А—Г–њ–µ –ї–Њ—И–∞–і–Є, –Њ–љ–∞ –±–Њ—П–ї–∞—Б—М —Г–њ–∞—Б—В—М. –Т—Б–µ
–Ї—А–µ–њ—З–µ –Є –Ї—А–µ–њ—З–µ –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞ –≤—Б–µ–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ, –≥—А—Г–і—М—О –Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Ї —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є
—Б–њ–Є–љ–µ, –Ї —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ –њ–ї–µ—З–∞–Љ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –У–Њ—З–Є –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —В–µ–њ–ї–Њ—В—Г
–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–∞, –Є –≥–Њ—А—П—З–µ–µ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –љ–∞—З–∞–ї–Њ –ґ–µ—З—М –µ–≥–Њ –њ–ї–µ—З–Њ. –Т—Б–µ —Н—В–Є
–і–љ–Є –Њ–љ —Б–Ї–Є—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ –≥–Њ—А–∞–Љ –Є —Б—В–µ–њ—П–Љ, –љ–µ —Б–Љ–µ—П –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–Љ –Њ—В–і—Л—Е–µ, –∞ –љ–µ
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –ї–∞—Б–Ї–∞—Е, –Є —В–µ–њ–µ—А—М –≤–і—А—Г–≥, —Б–Њ–≥—А–µ—В–Њ–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–Њ–є, –µ–≥–Њ —В–µ–ї–Њ
–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–њ—А—П–≥–ї–Њ—Б—М, –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ, –Є –Њ–љ –µ–і–≤–∞ –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї
—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ –≤ —Б–µ–і–ї–µ. –І—В–Њ–±—Л –Њ—В–≤–ї–µ—З—М—Б—П –Є –Ј–∞–±—Л—В—М—Б—П, –У–Њ—З–Є —З—В–Њ –µ—Б—В—М —Б–Є–ї—Л
—Е–ї–µ—Б—В–љ—Г–ї –Ї–Њ–љ—П. –Ъ–Њ–љ—М, –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ї–∞–≤—И–Є–є –≤–Њ –≤—Б—О –Љ–Њ—З—М, –≤—Л—В—П–љ—Г–ї—Б—П –≤ —Б—В—А—Г–љ—Г.
–Э–Њ —З–µ–Љ –±—Л—Б—В—А–µ–µ –Љ—З–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–љ—М, —В–µ–Љ —Б—В—А–∞—И–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –¶–∞–≥–Њ, —В–µ–Љ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –Њ–љ–∞
–њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –Ї –У–Њ—З–Є –Є —В—А–µ–њ–µ—В–∞–ї–∞.
–Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Ї—А–Њ–≤—М –њ—А–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В –Ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –Є —З—В–Њ –Њ–љ —В–µ—А—П–µ—В
—Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ. –Ю–љ —Е–Њ—В–µ–ї –Њ—В–≤–µ—Б—В–Є –Њ—В —Б–µ–±—П –Њ–±–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–µ —А—Г–Ї–Є –¶–∞–≥–Њ, –љ–Њ —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ
–Њ–љ –≤—Л–і–∞–ї –±—Л —Б–≤–Њ–µ –њ—Г—Б—В—М –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ, –љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –њ–Њ—Б—В—Л–і–љ–Њ–µ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ. –Т —Н—В–Њ
–≤—А–µ–Љ—П –ї–Њ—И–∞–і—М –Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞—Б—М, –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–µ—А–љ—Г–ї–Њ –≤–љ–Є–Ј –Є —А—Г–Ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л
—Б–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї–Є —Б –њ–ї–µ—З. –Т –Є—Б–њ—Г–≥–µ –¶–∞–≥–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –У–Њ—З–Є –Є —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ –њ–Њ–і
—А—Г–Ї–Њ–є —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ, —З–∞—Б—В–Њ–µ, –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Њ—З–љ–Њ–µ –±–Є–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж–∞. –¶–∞–≥–Њ
—Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–љ—П–ї–∞ –≤—Б–µ –Є —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–і–µ—А–љ—Г–ї–∞ —А—Г–Ї–Є, –µ–і–≤–∞ –љ–µ —Г–њ–∞–≤ —Б –ї–Њ—И–∞–і–Є. –У–Њ—З–Є
—Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В—Л–і–љ–Њ, —В–Њ—З–љ–Њ –µ–≥–Њ –Њ—И–њ–∞—А–Є–ї–Є –Ї–Є–њ—П—В–Ї–Њ–Љ. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –љ–Њ—З–љ–∞—П —В–µ–Љ–љ–Њ—В–∞
—Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞ –≥—Г—Б—В—Г—О –≥–Њ—А—П—Й—Г—О –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—В—Г, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ –Њ–љ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б—В—Л–ї –Њ—В –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П,
–Њ—В—А–µ–Ј–≤–µ–ї –Є —Б–Љ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–±–Њ—А–Љ–Њ—В–∞–ї:
— –Э–Є—З–µ–≥–Њ. –Ф–µ—А–ґ–Є—Б—М –Ј–∞ –Љ–µ–љ—П –Ї—А–µ–њ—З–µ, –∞ —В–Њ —Г–њ–∞–і–µ—И—М. — –Ш —Б–∞–Љ,
–њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –≤–Ј—П–ї –µ–µ —А—Г–Ї–Є –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Є. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ –і–Њ–≤–µ—А–Є–ї–∞—Б—М
–≤–Њ–Є–љ—Г. –Т–і—А—Г–≥ –У–Њ—З–Є –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –њ–ї–µ—З–Њ –љ–∞–Љ–Њ–Ї–ї–Њ –Њ—В —Б–ї–µ–Ј. — –Э–µ –њ–ї–∞—З—М,
—Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—П. –Т—Б–µ –±—Г–і—Г—В –ґ–Є–≤—Л –Є —Ж–µ–ї—Л. — –Э–Њ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –µ–≥–Њ –і—Г—И–Є–ї–Є —Б–ї–µ–Ј—Л –Ј–∞
—А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –Ј–∞ —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–і–љ—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О.
–Ю—В—А—П–і –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї—Б—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –і—А—Г–≥–Є–Љ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ
–Њ—В—А—П–і–Њ–Љ, —В–Њ–ґ–µ —Г—И–µ–і—И–Є–Љ –≤ –ї–µ—Б–∞. –С–Њ–ї—М—И–Є–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є –Є —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—К–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є—Б—М
—Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є, –њ–Њ –≥–Њ—А–∞–Љ, –њ–Њ —Г—Й–µ–ї—М—П–Љ, –њ–Њ —В—А–Њ–њ–Є–љ–Ї–∞–Љ.
–У–Њ—З–Є –≤—Л–≤–µ–Ј –¶–∞–≥–Њ –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥—Г, –≤–µ–і—Г—Й—Г—О –≤ –Р—Е–∞–ї–і–∞–±—Г, –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Й–∞–ї—Б—П —Б –љ–µ–є.
–¶–∞–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞ –љ–∞ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ, —Б—А–µ–і–Є –њ—Г—Б—В–Њ–є –Є –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є.
–Т –њ–Њ–ї—П—Е –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–Њ—В–∞, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–∞—Б—М –і–µ—А–µ–≤–љ—П, —В–Њ –Є –≤ –љ–µ–є –і–Њ–Љ–∞
—Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–µ–Њ–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ, —В—А—Г–±—Л –љ–µ –і—Л–Љ–Є–ї–Є—Б—М. –Т–Њ—В –Є –Р—Е–∞–ї–і–∞–±–∞. –¶–∞–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М
–њ–µ—А–µ–і –і–Њ–Љ–Њ–Љ –Т–∞—З–µ. –£ –≤–Њ—А–Њ—В –Њ–љ–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—В–Њ—П–ї–∞,
–њ—А–Є—Б–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї —Б—В–Њ–ї–±—Г, –Є –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞.
–Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є —Е–Њ—В–µ–ї–∞ —Г–±–µ–ґ–∞—В—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ
–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М, –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ —Г—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–≤—И—Г—О –≤—Б–µ –±–ї–Є–ґ–µ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Ї—Г.
–Ч–∞—В–Њ –¶–∞–≥–Њ —Б—А–∞–Ј—Г —Г–Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —Н—В–Њ —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї –Т–∞—З–µ. –Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞
–љ–∞–Ј–∞–і, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є –њ–Њ—И–ї–∞, —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—П—Б—М, –Є–і–µ—В –ї–Є –Ј–∞ –љ–µ–є
–ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞.
–¶–∞–≥–Њ –≤–Њ—И–ї–∞ –≤–Њ –і–≤–Њ—А. –Ю–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —И–ї–∞ –Ј–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Њ–є. –Я–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М –њ–Њ
–ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ, –¶–∞–≥–Њ –µ–і–≤–∞ –љ–µ —А–∞–Ј—А—Л–і–∞–ї–∞—Б—М. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ –Њ–љ–∞ –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ–Њ –Є
–ї–µ–≥–Ї–Њ –≤–Ј–±–µ–≥–∞–ї–∞ –њ–Њ —Н—В–Є–Љ —Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–∞–Љ! –Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ –≤ —Б–µ–±–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ
–≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –љ–µ–µ –љ–µ –Ј–∞–Љ–Є—А–∞–ї–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б.
–Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –µ–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Ї –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ. –Э–∞
–Ї—А–Њ–≤–∞—В–Є –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –≤ –ґ–∞—А—Г –Є –≤ –±—А–µ–і—Г –Љ–∞—В—М –Т–∞—З–µ. –•—Г–і–∞—П, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–µ–ї–µ—В, —Б–µ–і–∞—П
–ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –≤–Њ–і–Є–ї–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є —В–Њ —Б—В–Њ–љ–∞–ї–∞, —В–Њ –±–Њ—А–Љ–Њ—В–∞–ї–∞
–љ–µ—А–∞–Ј–±–Њ—А—З–Є–≤—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, —В–Њ –≤–і—А—Г–≥ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞ –њ–µ—В—М.
— –Ю, –≥–Њ—А–µ —А–Њ–і–Є–≤—И–µ–є —В–µ–±—П, —Б—Л–љ –Љ–Њ–є, — –њ—А–Є—З–Є—В–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М–љ–∞—П, — –±—Г–і—М –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В
—В–Њ—В, –Ї—В–Њ –Њ—В–µ–Љ–љ–Є–ї —В–≤–Њ–є —П—Б–љ—Л–є –≤–Ј–Њ—А...
–Я—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є –ґ—Г—В–Ї–Њ, —Б–µ—А–і—Ж–µ –¶–∞–≥–Њ —Б–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В –њ—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤–Є—П
–Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–µ–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–Љ–Њ–є –±–µ–і—Л.
— –Я—Г—Б—В—М –Ј–µ–Љ–ї—П —Б–≥–Њ—А–Є—В –Є —А–∞–Ј–≤–µ—А–Ј–љ–µ—В—Б—П –њ–Њ–і —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –Њ—В–љ—П–ї —Б–≤–µ—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ —Г
–Љ–Њ–µ–≥–Њ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞... — –С–Њ–ї—М–љ–∞—П –Ј–∞–±–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Є—Б—В–µ—А–Є–Ї–µ, –љ–∞—З–∞–ї–∞ –ї–Њ–Љ–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є –Є
–Ї—Г—Б–∞—В—М –њ–∞–ї—М—Ж—Л. –Ю–љ–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –µ–µ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М. –Э–Њ
–њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–њ–∞–і–Њ–Ї —Б–ї–∞–±–µ–ї, –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–∞—П –Ј–∞—В–Є—Е–ї–∞ –Є –≤ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ—В–Ї–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М
–љ–∞ –њ–Њ–і—Г—И–Ї—Г. –Ю–љ–∞ —Б–Њ–±—А–∞–ї–∞ –њ–∞–ї—М—Ж—Л –≤ —Й–µ–њ–Њ—В—М, –ґ–µ–ї–∞—П –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є—В—М –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ, —А—Г–Ї–∞
–µ–µ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М, —В–µ–ї–Њ –µ–µ –і–µ—А–љ—Г–ї–Њ—Б—М, –Є –Њ–љ–∞ –Ј–∞—В–Є—Е–ї–∞ –љ–∞–≤–µ–Ї.
–Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–∞, –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —З—В–Њ-—В–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ, –Њ—В–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –Њ—В
–њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є, –Ј–∞–±–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Г–≥–Њ–ї –Є –Ј–∞–њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞ –µ—Й–µ –≥–Њ—А—И–µ. –¶–∞–≥–Њ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї—Г –Ј–∞
—А—Г–Ї—Г –Є –≤—Л–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –љ–∞ –і–≤–Њ—А, –љ–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ.
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–∞ –±–µ–ґ–∞–ї–∞ –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –і–Њ–Љ—Г, –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є
–і—Г—И–Є. –Т–Ј–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ, —В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–∞ –і–≤–µ—А—М –Є –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ–Њ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞
–њ–Њ—А–Њ–≥–µ. –Э–∞ –Ї—А–Њ–≤–∞—В–Є —Б–Є–і–µ–ї–∞ –Љ–∞—В—М –¶–∞–≥–Њ. –Ч–∞–њ—А–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤ –Ї—Г–≤—И–Є–љ, –Њ–љ–∞, –љ–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞—П—Б—М,
–њ–Є–ї–∞ –≤–Њ–і—Г. –£—Б–ї—Л—И–∞–≤ —Б—В—Г–Ї –і–≤–µ—А–Є, —Б—В–∞—А—Г—Е–∞ –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –Ї—Г–≤—И–Є–љ–∞ –Є —В—Г—В –ґ–µ
—Г—А–Њ–љ–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї.
— –¶–∞–≥–Њ, –і–Њ—З–Ї–∞! –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —В—Л –ґ–Є–≤–∞?
— –Ц–Є–≤–∞, –ґ–Є–≤–∞, –Љ–∞–Љ–∞, —Н—В–Њ —П, –¶–∞–≥–Њ.
— –Э–µ—В, –љ–µ—В, –љ–µ –њ—А–Є–Ї–∞—Б–∞–є—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ, –љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є, —Г–є–і–Є, —П –±–Њ–ї—М–љ–∞, —В—Л
–Љ–Њ–ґ–µ—И—М –Ј–∞—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П, — —Б–∞–Љ–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞ –Њ—В –і–Њ—З–µ—А–Є. –Э–Њ –і–Њ—З—М –љ–µ
—Б–ї—Г—И–∞–ї–∞—Б—М, –Њ–љ–∞ –≤—Б–µ –Ї—А–µ–њ—З–µ –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ —Б—В–∞—А—Г—О –±–Њ–ї—М–љ—Г—О –Љ–∞—В—М, –≤—Б–µ –≥–Њ—А—П—З–µ–є
–ї–∞—Б–Ї–∞–ї–∞ –µ–µ. –Ю–±–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–Є, –Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ — –≥–Њ—А—П –Є–ї–Є
—А–∞–і–Њ—Б—В–Є — –±—Л–ї–Њ –≤ –Є—Е —Б–ї–µ–Ј–∞—Е.
— –Ч–∞—З–µ–Љ —В—Л –і–Њ—В—А–Њ–љ—Г–ї–∞—Б—М –і–Њ –Љ–µ–љ—П, –і–Њ—З–Ї–∞, — –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –Љ–∞—В—М —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М
—Б–ї–µ–Ј—Л, — —В—Л –≤–µ–і—М —В–µ–њ–µ—А—М –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–µ—И—М, –Ї–∞–Ї –Є —П.
— –Э–µ—В, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В. –Р —В—Л –і–∞–≤–љ–Њ –±–Њ–ї—М–љ–∞?
— –Ф–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤—А–∞–≥–Є —А–∞–Ј–Њ—А–Є–ї–Є –љ–∞—И–µ —Б–µ–ї–Њ. –І—В–Њ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М, –≤–Ј—П–ї–Є —Б
—Б–Њ–±–Њ–є, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞—Б–Ї–Є–і–∞–ї–Є, —Б–Њ–ґ–≥–ї–Є. –Т–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б–µ–ї–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ
–Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л, –∞ —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Љ—Л, –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ—Л–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л? –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Љ—Л –≥–Њ–ї–Њ–і–∞–ї–Є.
–Э–Њ —Н—В–Њ –≤—Б–µ –љ–µ –±–µ–і–∞. –У–Њ–ї–Њ–і –Љ—Л –Ї–∞–Ї-–љ–Є–±—Г–і—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–Є –±—Л, –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П
—Н—В–Њ—В –Љ–Њ—А. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М —Г–љ–Њ—Б–Є—В –і–≤—Г—Е-—В—А–µ—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Е–Њ—А–Њ–љ–Є—В—М –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г, –і–µ—А–µ–≤–љ—П
–Ј–∞–і—Л—Е–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –Ј–ї–Њ–≤–Њ–љ–Є—П. –Ь–∞—В—М –Т–∞—З–µ, —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞, —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Ф–Њ
–≤—З–µ—А–∞—И–љ–µ–≥–Њ –і–љ—П —П —Г—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –Ј–∞ –љ–µ–є, –∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–≤–∞–ї–Є–ї–∞—Б—М –Є —Б–∞–Љ–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –љ–µ
–Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ —Б –љ–µ–є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ–∞ —Г–ґ–µ —Г–Љ–µ—А–ї–∞.
— –Ф–∞, —Г–Љ–µ—А–ї–∞. –ѓ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ—В—В—Г–і–∞. –Ю–љ–∞ —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е.
— –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, —Г—В–µ—И—М –µ–µ –і—Г—И—Г. –Ш —В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Њ–љ–∞ —Б–∞–Љ–∞ –Љ–µ—З—В–∞–ї–∞ –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є.
–Ц–Є–Ј–љ—М –і–ї—П –љ–µ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞—Б—М –Љ—Г—З–µ–љ—М–µ–Љ —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї –Њ—Б–ї–µ–њ–Є–ї–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Т–∞—З–µ.
— –Ю—Б–ї–µ–њ–Є–ї–Є –Т–∞—З–µ?! –Ъ–Њ–≥–і–∞, –Ј–∞ —З—В–Њ?! –Ъ—В–Њ –Њ—Б–Љ–µ–ї–Є–ї—Б—П –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В—М –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ
–ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –У—А—Г–Ј–Є–Є?!
— –Я—А–Њ–Ї–ї—П—В—Л–є –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ. –Ю–љ —Б–∞–Љ, —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –≤—Л–Ї–Њ–ї–Њ–ї —П—Б–љ—Л–µ –Њ—З–Є
–љ–∞—И–µ–≥–Њ –Т–∞—З–µ. –С–µ–і–љ—Л–є –Т–∞—З–µ. –Э–µ—В –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–µ–µ –µ–≥–Њ.
— –Р –Ј–∞ —З—В–Њ?
— –Т–∞—З–µ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Г—О –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г; –°—Г–ї—В–∞–љ,
—Г–≤–Є–і–µ–≤ –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж—Г, –≤–µ–ї–µ–ї –љ–∞–є—В–Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞, –Є –Т–∞—З–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ї —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г. –Ґ–Њ–≥–і–∞
—Б—Г–ї—В–∞–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Т–∞—З–µ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Г—О –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ. –Р –≥–і–µ
–µ–µ –≤–Ј—П—В—М? –Э–µ –Љ–Њ–≥ –ґ–µ –Т–∞—З–µ –Њ–ґ–Є–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Є –≤–µ–ї–µ—В—М, —З—В–Њ–± –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П
–Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞ —Б–Њ—И–ї–∞ —Б–Њ —Б—В–µ–љ—Л –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –Њ–±—К—П—В–Є—П –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–≥–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞. –Т–∞—З–µ –љ–µ
–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –Є —А–∞–Ј–≥–љ–µ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Б—Г–ї—В–∞–љ –≤—Л–Ї–Њ–ї–Њ–ї –µ–Љ—Г –≥–ї–∞–Ј–∞.
–¶–∞–≥–Њ –≤—Б–µ –њ–Њ–љ—П–ї–∞. –Ъ–∞—А—В–Є–љ–∞ –Т–∞—З–µ —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б—В–∞–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і –љ–µ–є. –Ф–∞ –≤–µ–і—М —Н—В–Њ –ґ–µ
–Љ–µ–љ—П, –Љ–µ–љ—П –≤–µ–ї–µ–ї –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є —Б—Г–ї—В–∞–љ! –†–∞–і–Є –Љ–µ–љ—П, —А–∞–і–Є –Љ–Њ–µ–є —З–µ—Б—В–Є –Т–∞—З–µ
–њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–∞–Љ—Л–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–Є–Љ, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ, — –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞.
— –Ю, –Т–∞—З–µ, –Т–∞—З–µ! — –¶–∞–≥–Њ –Ј–∞–і–Њ—Е–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ —А—Л–і–∞–љ–Є—П—Е –Є —Г–њ–∞–ї–∞ –љ–∞ –ґ–µ—Б—В–Ї—Г—О
–њ–Њ—Б—В–µ–ї—М.
–Ч–∞–≤–Њ–µ–≤—Л–≤–∞—П –Р–і–∞—А–±–∞–і–∞–≥–∞–љ –Є –У—А—Г–Ј–Є—О, –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –љ–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї –≥–ї–∞–Ј —Б
–Ш—А–∞–љ–∞. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —В–∞–Љ, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–∞ —О–≥–µ, —Б–Њ –і–љ—П –љ–∞ –і–µ–љ—М –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ—П–≤–Є—В—М—Б—П
–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л, –∞ –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –≤—Л–є—В–Є –Є–Љ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –Њ–Ї—А–µ–њ–љ–µ—В –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞
—Б–µ–≤–µ—А–µ, –Њ–±–Њ–≥–∞—В–Є–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞ —Б—З–µ—В —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–Є—П –У—А—Г–Ј–Є–Є, –Є –љ–µ —Б–Њ–±–µ—А–µ—В –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ
–≤–Њ–є—Б–Ї–∞.
–Э–Њ –µ—Й–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ —Б—Г–ї—В–∞–љ –Њ–њ–∞—Б–∞–ї—Б—П –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Ш—А–∞–љ–∞.
–°—Г–ї—В–∞–љ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ —З–µ–Љ –і–∞–ї—М—И–µ –Њ–љ —Г—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А, —В–µ–Љ
—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–µ–µ, —А–∞–Ј–≤—П–Ј–љ–µ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–µ–±—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ—Л–µ –µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є
–Ш—А–∞–љ–∞, —В–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–µ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М –Њ—В –љ–Є—Е –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –Є —Г–і–∞—А–∞
–≤ —Б–њ–Є–љ—Г. –Я—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і–±–∞–і—А–Є–≤–∞–ї–Њ –Є—А–∞–љ—Ж–µ–≤.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Г—Б–њ–µ—Е–Є –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ–њ–Є—А–∞—В—М—Б—П –љ–∞
—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ —О–ґ–љ—Л—Е –µ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М. –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–µ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ш—А–∞–љ–µ, —Б–ї—Г—Е–Є –Њ
–Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–∞—Е –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П—Е –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –Њ—Й—Г—Й–∞–ї, –Ї–∞–Ї —Б–∞–±–ї—О, –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Г—О —Б–Ј–∞–і–Є,
—Б–Њ —Б–њ–Є–љ—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≥–Њ—А—П—З–µ–≥–Њ –±–Њ—П. –Я—А–Њ—Б–ї—Л—И–∞–≤ –Њ –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–∞—Е, –Њ–љ —В–Њ—В—З–∞—Б –±—А–Њ—Б–∞–ї
–љ–∞ —О–≥ —З–∞—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞—В–Њ–њ—В–∞—В—М –Њ—З–∞–≥, –љ–µ –і–∞–≤ –µ–Љ—Г —А–∞–Ј–≥–Њ—А–µ—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї
—Б–ї–µ–і—Г–µ—В.
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –±—Л–ї –Ј–∞–љ—П—В —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј –Ш—А–∞–љ–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є,
—З—В–Њ –Ї –Ъ–µ—А–Љ–∞–љ—Г –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞—О—В –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л –Є —З—В–Њ –≠–і–ґ–Є–± –С–Њ—А–∞–Ї, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ
–Ъ–µ—А–Љ–∞–љ–∞, –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —В–∞–є–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–∞–Љ–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —Е–Њ—З–µ—В –њ—А–Њ–і–∞—В—М
—Б—Г–ї—В–∞–љ–∞, –њ–Њ–і–љ—П—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ –Є –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –±–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ, —Б–њ—А—П—В–∞–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞
—В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–∞–±–ї–µ–є.
–°—Г–ї—В–∞–љ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—Б–ї–∞–ї –Ї –Ъ–µ—А–Љ–∞–љ—Г –њ—П—В—М —В—Л—Б—П—З –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –њ–Њ–і
–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ъ–Є–∞—Б-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞. –Ч–∞–і–∞—З–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Ї–∞—А–∞—В—М –≠–і–ґ–Є–±–∞
–С–Њ—А–∞–Ї–∞ –µ—Й–µ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–µ—В –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ –Є –њ—А–Є–Ј–Њ–≤–µ—В –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —В–∞—В–∞—А.
–°—Г–ї—В–∞–љ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї –±—А–∞—В—Г –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –ї—Г—З—И–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –љ–Њ –≤—Б–µ
–ґ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –Ю—З–µ–љ—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –±—Л–ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В. –Ш–Ј–Љ–µ–љ–∞
–Ъ–µ—А–Љ–∞–љ–∞ –Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В–∞–Љ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –љ–µ—В –≤—Б–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞ –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ, —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–ї–Є –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ—Л –љ–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ –Є –≤
–Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Є –Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–ї—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –≥–Є–±–µ–ї—М—О, –Є–±–Њ
—Б—А–µ–і–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Ш—А–∞–љ–∞ —Г –≠–і–ґ–Є–±–∞ –С–Њ—А–∞–Ї–∞ –љ–∞—И–ї–Є—Б—М –±—Л —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Є.
–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –У—А—Г–Ј–Є—П –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–∞, –љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ.
–Э–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Г—И–ї–Њ, —Г–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М –Ј–∞ –Ы–Є—Е—Б–Ї–Є–є —Е—А–µ–±–µ—В. –Ъ–∞–Ї –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г
–ї–∞–Ј—Г—В—З–Є–Ї–Є, —В–∞–Љ —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П –љ–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ, –Є –У—А—Г–Ј–Є—П –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–∞ –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М
—Б —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–∞–Љ–Є. –У—А—Г–Ј–Є–љ—Л –±—Г–і—В–Њ –±—Л –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ —В–∞–є–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б
–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Р—А–Ј—А—Г–Љ–∞, –•–ї–∞—В–∞ –Є –Ш–Ї–Њ–љ–Є–Є. –Ю–љ–Є –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–і—Б—В—А–µ–Ї–∞—О—В —Н—В–Є—Е
–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Ї –≤–Њ–є–љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞. –Ю–љ —Е–Њ—В—П –Є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–Є–љ –Є
–њ—А–Є—В–≤–Њ—А—П–µ—В—Б—П –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Р—А–Ј—А—Г–Љ–∞, –Є –•–ї–∞—В–∞, –Є –Ш–Ї–Њ–љ–Є–Є, –Є –і—А—Г–≥–Є—Е
–Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ-–љ–∞–≤—Б–µ–≥–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї–µ—Ж, –Є –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ —
–њ–Њ —В—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, –≤ –£—А–≥–µ–љ—З–µ –Є –°–∞–Љ–∞—А–Ї–∞–љ–і–µ.
–Т—Б–µ —Н—В–Њ –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞. –Х—Б–ї–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Л –Њ–Ї—А–µ–њ–љ—Г—В, –µ—Б–ї–Є –Є–Љ
—Г–і–∞—Б—В—Б—П —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М –љ–∞ —Б–≤–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є, –µ—Б–ї–Є
–≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ –≠–і–ґ–Є–±–∞ –С–Њ—А–∞–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –±–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ, —В–Њ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П
–Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г—Е –Њ–≥–љ–µ–є. –Э–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –µ–≥–Њ –Ј–∞–і–∞—З–∞ — —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ
–њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–µ —Б –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–Њ–Љ. –£–ґ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –µ–Љ—Г
–њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –і–≤–µ —З–∞—Б—В–Є. –Э—Г–ґ–љ–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–Є –≤ –Ш—А–∞–љ–µ,
–љ—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –і–Њ–±–Є—В—М –У—А—Г–Ј–Є—О, —З—В–Њ–±—Л –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М —В—Л–ї–∞.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –У—А—Г–Ј–Є–Є —А–∞–Ј–≤—П–Ј–∞–ї–Њ –±—Л —А—Г–Ї–Є —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б
–І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–Њ–Љ.
–Ъ–Є–∞—Б-—Н–і-–Ф–Є–љ –µ—Й–µ –љ–µ –і–Њ—И–µ–ї –і–Њ –Ъ–µ—А–Љ–∞–љ–∞, –Ї–∞–Ї —Б—Г–ї—В–∞–љ —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –љ–Є–Љ —Б–Њ
—Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ. –Т–Є–Ј–Є—А—М –±—Л–ї –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–∞—В—М—Б—П –У—А—Г–Ј–Є–µ–є. –Х–Љ—Г –±—Л–ї –і–∞–љ
–љ–∞–Ї–∞–Ј –љ–µ –і–∞–≤–∞—В—М –≥—А—Г–Ј–Є–љ–∞–Љ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–љ—П –њ–µ—А–µ–і—Л—И–Ї–Є, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М
–љ–∞–±–µ–≥–Є –≤ –≥–ї—Г–±—М –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –ґ–µ —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–Љ–Є —Б
–У—А—Г–Ј–Є–µ–є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є: –љ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л —В–∞–є–љ—Л—Е –≤—Б—В—А–µ—З,
—Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Г —Н—В–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ —Б
–њ–Њ–ї—Г–њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л–Љ –У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ.
–®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї—Г –Љ–∞–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–є—В–Є—Б—М –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ
—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ –У—А—Г–Ј–Є–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—В—А–µ–њ–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ъ–Є–∞—Б-—Н–і-–Ф–Є–љ–Њ–Љ,
–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б—Г–ї—В–∞–љ–Њ–Љ. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤–Є–Ј–Є—А—М –Ј–∞ —Б–±–Њ—А –і–Њ–±—Л—З–Є,
–∞ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞.
–Т –≥–Њ—А—Л –Њ–љ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥, —Е–Њ—В—П –Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–≤–∞–ї—Б—П, –Є–±–Њ —В–∞–Љ, –≤ –≥–Њ—А–∞—Е,
–њ—А—П—В–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –У—А—Г–Ј–Є–Є. –Ч–∞—В–Њ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–µ –і–Њ–ї–Є–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–Љ–µ—В–µ–љ—Л
—З–Є—Б—В–Њ, –Є –Њ –љ–Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –і—Г–Љ–∞—В—М. –Т–Є–Ј–Є—А—М –Є—Б–Ї–∞–ї, –≥–і–µ –±—Л –µ—Й–µ
–њ–Њ–ґ–Є–≤–Є—В—М—Б—П, –њ–Њ–Ї–∞ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є –њ–Њ–Ї–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ—Л–µ,
—Б–Є–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞.
–Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї—Г –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –≤ —А—Г–Ї–Є –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ —В–∞–є–љ–Њ–µ
–њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ –∞—А–Ј—А—Г–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –Ї —Ж–∞—А–Є—Ж–µ –У—А—Г–Ј–Є–Є. –Т –і–≤—Г—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ
—Б–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ґ–Њ–≥—А–Є–ї—И–∞—Е –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї —Ж–∞—А–Є—Ж–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ
–≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В —Г–і–Њ–±–љ—Л–є —З–∞—Б.
–®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –±—Л–ї–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ. –Ю–љ –Є —В–∞–Ї –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ
–њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї –≤ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –Р—А–Ј—А—Г–Љ–∞, —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Б–ї–∞–±–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е
–≤–∞—Б—Б–∞–ї–Њ–≤ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–∞—А–Є—Ж—Л. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –±—Л–ї –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В,
–љ–µ–њ—А–µ—А–µ–Ї–∞–µ–Љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –Є–Ј–Љ–µ–љ—Г, —А—Г–Ї–Є –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М
—А–∞–Ј–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –Є –Њ–љ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –і–Њ–±—Л—З–∞ —Б–∞–Љ–∞ –њ–ї—Л–≤–µ—В –Ї –љ–µ–Љ—Г. –С–µ–Ј –њ—А–Њ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є—П
–Њ–љ –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і, –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї –Р—А–Ј—А—Г–Љ—Г –Є –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±—Л—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є –≤–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –≤
–≥–Њ—А–Њ–і.
–•–Њ—А–Њ—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ґ–Њ–≥—А–Є–ї—И–∞—Е–∞, –љ–Є —Г –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї –≥–Њ—В–Њ–≤ –Ї –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—О
—Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤, –љ–µ –ґ–і–∞–ї —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П, –Є —Б—Г–і—М–±–∞ –Р—А–Ј—А—Г–Љ–∞ —А–µ—И–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Њ–і–Є–љ
—З–∞—Б.
–•–ї–∞—В—Б–Ї–Є–є –Љ–µ–ї–Є–Ї –≠–ї—М-–Р—И—А–∞—Д –±—Л–ї –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –°–Є—А–Є–Є. –Ъ–∞–Ї –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ, –Њ–љ
–њ—А–Њ–ґ–Є–≥–∞–ї –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Њ—Е–Њ—В–∞—Е –Є –њ–Є—А–∞—Е, –∞ –•–ї–∞—В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞
–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Є —Г–Љ–љ–∞—П —Ж–∞—А–Є—Ж–∞ –Ґ–∞–Љ—В–∞. –Х–є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –≤–µ—А–љ—Л–є –≠–і–ґ–Є–± –У–Є—Б–∞–Љ-—Н–і-–Ф–Є–љ. –Ъ
–Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—П –Р—А–Ј—А—Г–Љ–∞ –≤–Є–Ј–Є—А–µ–Љ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞ —Е–ї–∞—В—Ж—Л –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є —Б –У—А—Г–Ј–Є–µ–є
–≤ —В–∞–є–љ—Л–є —Б–Њ—О–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤ –Є –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Б–µ–Ї—А–µ—В–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є
–≤–Њ–є—Б–Ї–∞, —З—В–Њ–±—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –ї—О–±–Њ–є —Г–і–Њ–±–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В.
–£–Ј–љ–∞–≤ –Њ —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–і–∞—З–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–µ–і–∞ –Є —В–Њ—З–љ–Њ –Ј–љ–∞—П, —З—В–Њ
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –≤ –Ш—А–∞–љ–µ, —Ж–∞—А–Є—Ж–∞ –Ґ–∞–Љ—В–∞
–Њ—В–і–∞–ї–∞ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –У–Є—Б–∞–Љ-—Н–і-–Ф–Є–љ—Г –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є—В—М —Б—Г–ї—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Є–Ј–Є—А—П, —А–∞–Ј–±–Є—В—М
–µ–≥–Њ –Є –Њ—В–Њ–±—А–∞—В—М –і–Њ–±—Л—З—Г, –љ–∞–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–љ—Г—О –≤ –Р—А–Ј—А—Г–Љ–µ.
–†–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є –Њ—В–≤–∞–ґ–љ—Л–є –У–Є—Б–∞–Љ-—Н–і-–Ф–Є–љ, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—П –≤–Њ–ї—О —Ж–∞—А–Є—Ж—Л, –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї —Б
–љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ, –љ–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ –Є —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї –Ј–∞—Б–∞–і—Г –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–µ, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є
–љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–є—В–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї–∞, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Є–Ј
—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞.
–®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–њ–Є–љ–Њ–є –Њ—Й—Г—Й–∞–ї –Ї—А—Л–ї—М—П. –Я–Њ–±–µ–і–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М
–ї–µ–≥–Ї–Њ–є, –∞ –і–Њ–±—Л—З–∞ –≤–µ—Б–Њ–Љ–Њ–є. –Ъ–∞–Ј–љ–∞ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞—Б—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є,
–≥–∞—А–µ–Љ — –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є-–∞—А–Ј—А—Г–Љ–Ї–∞–Љ–Є, –∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ –≤–Є–Ј–Є—А—П –њ—А–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М
—Б–∞–Љ–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Є —Б–њ–µ—Б—М—О. –Ю–љ –Є –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ—Б–Љ–µ–ї–Є—В—Б—П
–њ–Њ–і–љ—П—В—М –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Љ–µ—З, –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, —Б—В–Њ–ї—М —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –±—Л—Б—В—А–Њ —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і
–Р—А–Ј—А—Г–Љ.
–•–ї–∞—В—Ж—Л –љ–∞–њ–∞–ї–Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≤ —В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П —Е–Њ–ї–Љ–∞–Љ–Є
–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–µ—З—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ–ї—М—П. –•–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж—Л –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є
–љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –љ–µ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П. –Ю–љ–Є –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ –≤–µ–Ј–ї–Є —Б
—Б–Њ–±–Њ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б–µ, —З—В–Њ –љ–∞–≥—А–∞–±–Є–ї–Є –Є —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ, –Є, –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї –≤—Л–±—А–∞–≤—И–Є—Б—М
–Є–Ј –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Є, –і–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є—Б—М –±—Л—Б—В—А–Њ—В–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–Њ–љ–µ–є.
–®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є–є—В–Є –≤ —Б–µ–±—П. –Ю–љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М, —З—В–Њ
–Њ–і–љ–Є –ї–Є—И—М —Е–ї–∞—В—Ж—Л –і–µ—А–Ј–љ—Г–ї–Є –љ–∞–њ–∞—Б—В—М –љ–∞ –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л—Е —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤, –Є –і—Г–Љ–∞–ї,
—З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –•–ї–∞—В–∞, –Ш–Ї–Њ–љ–Є–Є, –®–∞–Љ–∞ –Є —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ
–Х–≥–Є–њ—В–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –±–µ–≥—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М —Е–Њ—В—М
–Ї–∞–Ї-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ—Л –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞, –і–∞ –Є –≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е
–≥–ї–∞–Ј–∞—Е. –Ю–љ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г –≥–Њ–љ—Ж–∞ —Б —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–Љ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ
–і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ. –Э–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О —Б—В—Л—З–Ї—Г —Б —Е–ї–∞—В—Ж–∞–Љ–Є –Њ–љ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–ї –Ї–∞–Ї –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ
—Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї—З–Є—Й–∞–Љ–Є.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Л —В–Њ—В—З–∞—Б —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Є –±–µ–≥—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ
–њ—А–Є—В–µ—Б–љ–Є—В–µ–ї—П. –Ъ–љ—П–Ј—М—П, —Г–Ї—А–µ–њ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –≥–Њ—А–љ—Л—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—П—Е, –Њ—Б–Љ–µ–ї–µ–ї–Є –Є –љ–∞—З–∞–ї–Є
–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є, –љ–∞–њ–∞–і–∞—П –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Њ—В—А—П–і—Л –Є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ—Л —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤. –Т–∞—А–∞–Љ
–У–∞–≥–µ–ї–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ—Б–Љ–µ–ї–µ–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї—Г –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –У–∞–љ–і–Ј—Л
–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї –Њ—В –Ј–∞—Е–≤–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П.
–≠—В–Є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є –љ–∞–њ—Г–≥–∞–ї–Є –≤–Є–Ј–Є—А—П –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ. –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї —Б–ї–∞–ї –≥–Њ–љ—Ж–Њ–≤
–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ, –Њ–љ —Г–Љ–Њ–ї—П–ї —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ –У—А—Г–Ј–Є—О –Є
–≥—А–Њ–Ј–Є–ї—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —Б—Г–ї—В–∞–љ –њ—А–Њ–Љ–µ–і–ї–Є—В, —В–Њ –≤—Б–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П —Б–Њ–ї—М—О—В—Б—П
–≤ –Њ–і–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ, –Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤ –њ—А–Є–і–µ—В –Ї–Њ–љ–µ—Ж.
–Т–Ј–±—Г–і–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї—М —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ
–њ–µ—А–µ–Љ–µ—В–љ—Г–ї—Б—П —Б —О–≥–∞ –Њ–њ—П—В—М –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –У–љ–µ–≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —Е–ї–∞—В—Ж–∞–Љ
–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї —Б –Є—Б—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ю–љ –Є —А–∞–љ—М—И–µ –±—Л–ї –Ј–Њ–ї –љ–∞ —Ж–∞—А–Є—Ж—Г –Ґ–∞–Љ—В—Г, –µ—Й–µ —Б–Њ
–≤—А–µ–Љ–µ–љ –µ–µ –≤–Є–Ј–Є—В–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г –Є –≤—Б–µ–є —Н—В–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б –®–∞–ї–≤–Њ–є –Р—Е–∞–ї—Ж–Є—Е–µ–ї–Є. –Э–Њ —В–Њ–≥–і–∞
–Њ–љ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ, –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В—М—О
–ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ (—З–µ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б—В–Њ–Є–ї —Б—Г–ї—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л–є –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї,
–Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–є –≤ —И–µ–ї–Ї–Њ–≤—Г—О —И–∞–ї—М), —В–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –њ–Њ–≤–Њ–і –Њ—В–њ–ї–∞—В–Є—В—М –Ї–∞–Ї
—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–∞ –Њ–±–∞ –Ї–Њ–≤–∞—А—Б—В–≤–∞ —Б—А–∞–Ј—Г.
–Ф–∞–ґ–µ —Б–ї–∞–±—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–ї —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–≤–µ—Б—В–Є –≤
–Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ, —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М, —Г—Б—Л–њ–Є—В—М. –Т—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –±–Њ–є –µ—Б—В—М –±–Њ–є, –Є –µ—Б—В—М —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞,
—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ—В –≤ –±–Њ—О — —Б—В–Њ –Є–ї–Є —В—Л—Б—П—З–∞. –Т–Њ–Є–љ—Л –љ—Г–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г
–і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–Њ–Љ, –∞ –љ–µ –і–ї—П –Є–≥—А—Л –≤ –≤–Њ–є–љ—Г —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є-—В–Њ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є
—Е–ї–∞—В—Ж–∞–Љ–Є.
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б—Г–ї—В–∞–љ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї –Р–љ–Є—Б—Б–Ї–Њ–є –Є –Ъ–∞—А—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—П–Љ. –°
—Е–Њ–і—Г –≤–Ј—П—В—М –Є—Е –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М. –Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є —Б—В–µ–љ–Њ–±–Є—В–љ—Л–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Л.
–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–њ–Њ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –≤
–•–ї–∞—В–µ, —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Њ—Б–∞–і–µ —Н—В–Є—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г—Е–Є
–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М, –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і –Ф–Є–љ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–љ—П–ї –Њ—Б–∞–і—Г –Є —А—Л–≤–Ї–Њ–Љ
–±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –љ–∞ –•–ї–∞—В. –Ю–љ –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —Е–ї–∞—В—Ж—Л, —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞–±–ї—О–і–∞–≤—И–Є–µ –Њ—Б–∞–і–љ—Л–µ –±–Њ–Є
–њ–Њ–і –Ъ–∞—А—Б–Њ–Љ –Є –Р–љ–Є—Б–Є, –љ–µ —Г—Б–њ–µ—О—В –і–∞–ґ–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М –≤–Њ—А–Њ—В, –∞ –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В—М
–≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–≤–ї–∞–і–µ—В—М –•–ї–∞—В–Њ–Љ –±—Г–і–µ—В –Њ—З–µ–љ—М –ї–µ–≥–Ї–Њ.
–Э–Њ —Е–ї–∞—В—Ж—Л –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Њ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–Є —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –Ј–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П
–і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —П–≤–љ—Л–Љ. –•–ї–∞—В—Ж—Л —Г—Б–њ–µ–ї–Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є —Б–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П
—Б –і—Г—Е–Њ–Љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А—П–Љ–Њ —Б –Љ–∞—А—И–∞ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —И—В—Г—А–Љ
–•–ї–∞—В–∞, –≥–Њ—А–Њ–і –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Є –Њ—В–±–Є–ї —И—В—Г—А–Љ.
–°—Г–ї—В–∞–љ —А–∞—Б—Б–≤–Є—А–µ–њ–µ–ї –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ. –° —В–Њ–≥–Њ –і–љ—П, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤
–Р–і–∞—А–±–∞–і–∞–≥–∞–љ, –µ–Љ—Г —Б–≤–µ—В–Є–ї–∞ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–∞—П –Ј–≤–µ–Ј–і–∞, –µ–≥–Њ —В–∞–є–љ—Л–µ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞
–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–є–љ—Л–Љ–Є, –µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ–Є
–њ–Њ–±–µ–і–∞–Љ–Є. –Ш –≤–Њ—В, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ—А–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –њ–Њ–і–і–∞–µ—В—Б—П –Ј—Г–±–∞–Љ —Б—А–∞–Ј—Г
–ґ–µ, —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–ґ–Є–Љ–∞. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–∞–ї
–µ–≥–Њ –Є –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї —Е–ї–∞—В—Ж–∞–Љ –Њ –≥–Њ—В–Њ–≤—П—Й–µ–Љ—Б—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і. –Э–Њ –Ї—В–Њ? –Ю
–Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞—Е —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –Ј–љ–∞–ї–Њ —В—А–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞: –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї, –Ю—А—Е–∞–љ –Є –Ъ–∞—А–∞–Љ–µ–ї–Є–Ї.
–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Ъ–∞—А–∞–Љ–µ–ї–Є–Ї–∞, —В–Њ –Њ–љ –≤–Њ—В —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –±–Њ–ї–µ–љ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ
–Ј–∞—А–∞–Ј–љ–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О. –Ъ –љ–µ–Љ—Г –±–Њ—П—В—Б—П –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В—М –і–∞–ґ–µ –≤—А–∞—З–Є. –Ю—А—Е–∞–љ –≤ —Н—В–Є –і–љ–Є
–њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –±—Л–ї –њ—А–Є —Б—Г–ї—В–∞–љ–µ, –љ–∞ –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Є –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї—Б—П –љ–Є —Б –Ї–µ–Љ
–њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ, –Ї—В–Њ –Љ–Њ–≥ –±—Л —Б—Л–≥—А–∞—В—М —А–Њ–ї—М –ї–∞–Ј—Г—В—З–Є–Ї–∞ –Є –Њ—В–≤–µ–Ј—В–Є –≤ –•–ї–∞—В –≤–∞–ґ–љ—Л–µ
–≤–µ—Б—В–Є. –Ю—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї. –°—Г–ї—В–∞–љ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї –і–Њ —Б–µ–±—П –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–є –њ–Њ
–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –≤–Є–Ј–Є—А—О, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Г –≤–Є–Ј–Є—А–µ–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞—О—В –≤—А–∞–≥–Є. –Ю—А—Е–∞–љ –њ–µ—А–≤—Л–Љ
–љ–∞–Љ–µ–Ї–љ—Г–ї —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Г –≤–Є–Ј–Є—А—П –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —В–∞–є–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –•–ї–∞—В–Њ–Љ.
–Э–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Ю—А—Е–∞–љ–∞ —В–∞–Ї –њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–≤–µ—В—З–Є–Ї
—В–Њ—В—З–∞—Б –њ—А–Є–Ї—Г—Б–Є–ї —П–Ј—Л–Ї.
–С–µ–Ј—А–Њ–і–љ—Л–є –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї –±—Л–ї, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—П—Б—М –і–µ–ї–Њ–≤—Л–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ
—В–∞–є–љ–Њ–є —Б—Г–ї—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ—Е—А–∞–љ—Л. –У–Њ–≤–Њ—А—П –±–Њ–ї–µ–µ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ, –∞ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є
–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–љ–Њ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, –Њ–љ –±—Л–ї –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–Љ-—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞, –љ–µ —А–∞–Ј
—Б–њ–∞—Б–∞–≤—И–Є–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—П –Њ—В –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ–і–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–±–Є–є—Ж—Л –Є–ї–Є –Њ—В —В–∞–є–љ–Њ–≥–Њ
—П–і–∞. –Я—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–≤—Л—И–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–є –Љ–µ—А—Л.
–°—Г–ї—В–∞–љ –Ј–љ–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Ж–µ–љ–Є–ї –µ–µ. –У–ї–∞–Ј–∞ –Є —Г—И–Є —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞,
–®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї —Б–ї–µ–і–Є–ї –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Ј–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–µ
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–є–љ—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є, –љ–Њ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б–µ—А–і—Ж–∞. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П
–≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї —Г–Љ–µ–ї –њ–Њ–і–∞—В—М —Б–∞–Љ—Л–є —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–є
—Б–Њ–≤–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Б–µ —Б—А–∞–Ј—Г —Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є –Љ–µ—Б—В–∞ –Є —З–∞—Б—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П
—Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –і—А—Г–Ј—М—П –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї–∞ –Є–Ј
—Б–∞–Љ—Л—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ –Ј–∞–≤–Є–і—Г—О—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –≤–Є–Ј–Є—А—П, –µ–≥–Њ –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–є
–≤–ї–∞—Б—В–Є, –µ–≥–Њ —Б–ї–∞–≤–µ. –Ю–љ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Ј–∞–≤–Є–і—Г—О—В –Є —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г.
–Ю–љ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ–ї–µ—В—Г—В —В–∞–є–љ—Л–µ –љ–Є—В–Є –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—О—В
–њ—Г—В–Є –і–ї—П —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—П —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞, –і–∞–±—Л —Б–∞–Љ–Є–Љ –Ј–∞–љ—П—В—М –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е
–Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ—Л–є —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б—Г–ї—В–∞–љ–Њ–Љ –Є –Ј–∞ —Н—В–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–є –і–Њ
–Ї–Њ–љ—Ж–∞, –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –љ—Г–ґ–µ–љ. –Ш–Љ–µ—П —А—П–і–Њ–Љ –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї–∞, —Б—Г–ї—В–∞–љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ —Б–њ–∞–ї –≤
—Б–≤–Њ–µ–Љ —И–∞—В—А–µ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –≤ –љ–∞–Ј–Є–і–∞–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ–∞–Љ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ
—Б–і–µ–ї–∞–ї –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–Є–Ј–Є—А–µ–Љ. –Ґ–∞–є–љ–Њ–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ
–®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї–∞ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Ї–Њ–є –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —Ж–∞—А–µ–і–≤–Њ—А—Ж–µ–≤, –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–Њ
–≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–≥–Њ –Є –і–∞–ґ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤. –Э–Њ –≤–Є–Ј–Є—А—М –±—Л–ї —Г–Љ–µ–љ,
–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞—В–µ–ї–µ–љ, —Е–Є—В–µ—А, –Є –≤—А–∞–≥–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б –љ–Є–Љ –њ–Њ–і–µ–ї–∞—В—М.
–Ъ–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –Њ–љ —Г–Љ–µ–ї –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г —Б–≤–Њ—О –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –Њ–љ
—Г–Љ–µ–ї –њ–Њ—Б–µ—П—В—М –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А–Є–µ –Є –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ
—Ж–∞—А–µ–і–≤–Њ—А—Ж–∞–Љ. –Т—А–∞–≥–Є –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –≤—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Г—О –±–Њ—А—М–±—Г —Б –≤–Є–Ј–Є—А–µ–Љ –Є –ґ–і–∞–ї–Є,
–Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–µ—З–∞—П–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ–µ—В—Б—П — —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј.
–Ю–љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –ґ–і–∞–ї–Є —Г–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П, —З—В–Њ–±—Л —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –≤–Є–Ј–Є—А—П, –Є –љ–∞–і–µ—П–ї–Є—Б—М,
—З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–і–µ—В.
–£ –Ю—А—Е–∞–љ–∞, –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Н–Љ–Є—А–∞ —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞, —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ
—Б–µ—А–і—Ж–µ –Ї –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї—Г, –Є –Њ–љ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ–µ—Г—Б—Л–њ–љ—Л–Љ,
–љ–µ–і–Њ–±—А—Л–Љ –≥–ї–∞–Ј–Њ–Љ. –Ч–∞ –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Є–Ј–Є—А—П –Ю—А—Е–∞–љ—Г
—З—Г–і–Є–ї–∞—Б—М –∞–ї—З–љ–Њ—Б—В—М, —З–µ—Б—В–Њ–ї—О–±–Є–µ –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є —А–∞—Б—З–µ—В. –Ю—А—Е–∞–љ –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–µ
–і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—П—Е. –Т–Є–Ј–Є—А—М –ґ–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є
–і—М—П–≤–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Е–Є—В—А–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–Є–≤–∞–ї –Ю—А—Е–∞–љ–∞. –Э–Њ –Њ–љ –Є –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–Є—В—М —Г–Љ–µ–ї
—В–∞–Ї, —З—В–Њ –ї—Г—З—И–µ –±—Л –Њ–±—А—Г–≥–∞–ї.
–Т–Њ—В –Є —В–µ–њ–µ—А—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ю—А—Е–∞–љ –љ–∞–Љ–µ–Ї–љ—Г–ї –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–Љ–µ–љ—Л —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л
–≤–Є–Ј–Є—А—П, –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –љ–∞—Е–Љ—Г—А–Є–ї—Б—П, –Ю—А—Е–∞–љ –њ—А–Є–Ї—Г—Б–Є–ї —П–Ј—Л–Ї –Є –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї. –Э–Њ
—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –Њ–і–Њ–ї–µ–ї–Є —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞: –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —В—А–Њ–Є—Е, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї —
–Є–ї–Є –Ю—А—Е–∞–љ, –Є–ї–Є –Ъ–∞—А–∞–Љ–µ–ї–Є–Ї, –Є–ї–Є –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї.
–Ъ–Њ –≤—Б–µ–Љ —В—А–Њ–Є–Љ —Б—Г–ї—В–∞–љ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ —В–∞–є–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≥–ї—П–і–∞—В–∞—О –Є –љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї—Г.
–Ґ–Њ—А–µ–ї–Є, –Ї–Њ—А–њ–µ–≤—И–Є–є –њ–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—О –Э–µ—Б–µ–≤–Є –љ–∞–і –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є, —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ
–њ–Њ–ї–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і–µ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞ –Є –Њ –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–µ —А–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л. –Ю–љ
–љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –У–∞—А–љ–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –У—А—Г–Ј–Є—П —Б—Г–Љ–µ–µ—В –Њ–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П,
—Б–Њ–±—А–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б–Є–ї—Л, —Г–Ї—А–µ–њ–Є—В—М—Б—П –і—Г—Е–Њ–Љ –Є –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—М –≤—А–∞–≥–∞. –С–µ–Ј —Н—В–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –Њ–љ
–љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л —В–∞–Ї –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –њ–ї–µ–љ—Г –і–∞ –µ—Й–µ –њ–Є—Б–∞—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О.
–°–≤–Њ—О —А–∞–±–Њ—В—Г –Њ–љ —Б—З–Є—В–∞–ї –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–є –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –љ–µ –і–ї—П –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–Э–µ—Б–µ–≤–Є, –љ–Њ –Є –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –•–Њ–Ј—П–Є–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–і–Њ–±—А—П–ї –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –њ–Њ—Н—В–∞,
–љ–∞–і–µ–ґ–і—Л —В–µ–њ–ї–Є–ї–Є—Б—М, –Є, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –ґ–Є—В—М –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ.
–Ш –≤–Њ—В –Ґ–Њ—А–µ–ї–Є —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ—В. –Ь–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ
—Б–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Њ, –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ –Є —А–∞—Б—Б–µ—П–љ–Њ, –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ, –Ј–µ–Љ–ї—П —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–∞.
–†–∞–±–Њ—В–∞ —Б—А–∞–Ј—Г –Њ–њ–Њ—Б—В—Л–ї–µ–ї–∞ –µ–Љ—Г –Є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–∞ —Б–Љ—Л—Б–ї. –Ю–љ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М —Б
—Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ–Є –њ–Њ –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є–Є, –≥–ї–∞–Ј–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є—Б—М –≥—А—Г—Б—В—М—О, –љ–µ–Љ–Њ–є —В–Њ—Б–Ї–Њ–є, –Є –Њ–љ
–Є–Ј–±–µ–≥–∞–ї –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—В—М –Є—Е, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П —Б –ї—О–і—М–Љ–Є. –£—И–µ–ї —Б–Њ–љ, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М
–±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Ї –њ–Є—Й–µ.
–Э–µ—Б–µ–≤–Є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Б –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ –љ–µ –≤—Б–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –Є —З—В–Њ
–µ—Б–ї–Є —В–∞–Ї –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М—Б—П, —В–Њ –Њ–љ —Б–Ї–Њ—А–Њ —Г–Љ—А–µ—В. –Э–µ—Б–µ–≤–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞–Ї—А—Л—В—М
—Б—В–Њ–ї –Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –Ґ–Њ—А–µ–ї–Є –Ї —Б–µ–±–µ.
— –ѓ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О —В–≤–Њ—О –њ–µ—З–∞–ї—М, — –љ–∞—З–∞–ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Э–µ—Б–µ–≤–Є, — –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П
—В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –Њ–њ–µ—З–∞–ї–Є–ї–Њ –Љ–µ–љ—П –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М–µ –Љ–Њ–µ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–Њ–і–Є–љ—Л, –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ
–•–Њ—А–µ–Ј–Љ–∞. –ѓ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П –±—Л –±–Њ–ї—М—И–µ, –µ—Б–ї–Є –±—Л —Г–≤–Є–і–µ–ї —В–µ–±—П –≤–µ—Б–µ–ї—Л–Љ –Є –±–µ—Б–њ–µ—З–љ—Л–Љ
–њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ. –Ь—Г–ґ—З–Є–љ–∞, –∞ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—Н—В, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–µ—З–∞–ї–Є—В—М—Б—П –Њ
—Б—Г–і—М–±–µ —Б–≤–Њ–µ–є —А–Њ–і–Є–љ—Л. –Я–µ—З–∞–ї—М, —В–Њ—Б–Ї–∞ –њ–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л –і–ї—П –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л.
–Ю–љ–Є —Г–Ї—А–∞—И–∞—О—В –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –ї—О–±–∞—П –і–Њ–±–ї–µ—Б—В—М. –Э–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В—М –≤
–Њ—В—З–∞—П–љ–Є–µ. –Т—Б–µ, —З—В–Њ —Б–≤–µ—А—Е –Љ–µ—А—Л, –љ–µ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В –њ–Њ–ї—М–Ј—Л –љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –љ–Є –µ–≥–Њ –і–µ–ї—Г
–љ–∞ —Н—В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ.
— –Э–Њ –≤–µ—А–љ–Њ –ї–Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В? — —Б –Ј–∞—В–∞–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї
–Ґ–Њ—А–µ–ї–Є.
— –Р —З—В–Њ —В–µ–±–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В?
— –І—В–Њ –Њ—В –У—А—Г–Ј–Є–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ —А–∞–Ј–Њ—А–Є–ї –≤—Б–µ, —Б–ґ–µ–≥
–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —Б–µ–ї–∞, —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і–µ—В–µ–є —Г–±–Є–ї, –Љ—Г–ґ—З–Є–љ —Г–≥–љ–∞–ї –≤ –њ–ї–µ–љ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ–і–∞—В—М –≤
—А–∞–±—Б—В–≤–Њ, –∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Є –і–µ–≤ –Њ—В–і–∞–ї –љ–∞ –њ–Њ—А—Г–≥–∞–љ–Є–µ.
— –Т —Н—В–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–і—Л, –Є–±–Њ —Г –≤–Њ–є–љ—Л —Б–≤–Њ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л. –Ґ—Л —Б–∞–Љ –≤–Њ–Є–љ –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ
–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Љ, –≥–і–µ –Є–і–µ—В –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞, —В—А—Г–і–љ–Њ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М
—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г. –Э–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Њ.
–Э–∞—И —Б—Г–ї—В–∞–љ –љ–µ –Ї—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–і–љ—Л–є –І–Є–љ–≥–Є—Б, —З—В–Њ–±—Л —Г–±–Є–≤–∞—В—М —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і–µ—В–µ–є.
— –Ф–Њ–Љ–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –ґ–µ–љ–∞ –Є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї... –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є
—Г–±–µ–ґ–∞—В—М –Є —Б–њ–∞—Б—В–Є—Б—М?
— –£—В–µ—И—М—Б—П –Є –љ–µ –њ–ї–∞—З—М. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞ –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Г—О –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В—М –љ–∞—И —Б—Г–ї—В–∞–љ
–љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–Є—В –І–Є–љ–≥–Є—Б–∞. –Ґ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–Є –Њ–љ —Б–∞–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –µ–≥–Њ
–љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–љ—Л–є –≤—А–∞–≥, –Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–Є –Њ–љ —Б–∞–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л—Е —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤
–Є –і–µ—В–µ–є?
–Э–µ—Б–µ–≤–Є —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–ї –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞, –љ–Њ —Б–∞–Љ-—В–Њ –Ј–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї–∞—П –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–∞—П
–≤–Њ–ї–љ–∞ –њ—А–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–∞—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –У—А—Г–Ј–Є—О –Є —З—В–Њ –≤–Њ–Є–љ—Л –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞ –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –љ–µ
—Г—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–∞.
— –Х—Б–ї–Є –±—Л –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ –≤—Л, –µ—Б–ї–Є –±—Л —Б—Г–ї—В–∞–љ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї
—Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї –њ–Њ–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–і—Г—И–Є–µ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є –µ–≥–Њ
–±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і—Б—В–≤—Г! –Т –Ї–љ–Є–≥–µ –≤–∞—И–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞, –≤ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ъ–Њ—А–∞–љ–µ, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л
–Ї–∞–ґ–і—Л–є –±—Л–ї –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ—Л—Е —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і–µ—В–µ–є. –°—Г–ї—В–∞–љ — –±–ї—О—Б—В–Є—В–µ–ї—М
–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –Ь–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞, –і–∞–є –±–Њ–≥, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Є–Љ –Є –љ–∞ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ.
— –Ґ–∞–Ї –Њ–љ–Њ –Є –µ—Б—В—М. –Э–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ — –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Є –ґ–µ—А—В–≤—Л. –Х—Б–ї–Є –±—Л
–≥—А—Г–Ј–Є–љ—Л —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–Є–µ –Є –љ–µ –Њ—В—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Є –±—Л —А—Г–Ї–Є,
–њ—А–Њ—В—П–љ—Г—В–Њ–є –Ї –љ–Є–Љ —Б –і—А—Г–ґ–±–Њ–є –Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—А–Њ–і–љ–Є—В—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є –±—Л –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–∞—П
—Ж–∞—А–Є—Ж–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞ –Є –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ—Г–ґ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ
–±—Л –љ–Є –Ї—А–Њ–≤–Є, –љ–Є –Њ–≥–љ—П, –љ–Є —Б–ї–µ–Ј. –Ь–Є—А –Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ —Ж–∞—А–Є–ї–Є –±—Л –љ–∞ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є
–Ј–µ–Љ–ї–µ.
— –ѓ —В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –±—Л–≤–∞—В—М.
— –Э—Г –≤–Њ—В. –Р —В–µ–њ–µ—А—М –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Л –њ–Њ–ґ–Є–љ–∞—О—В –њ–ї–Њ–і—Л —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ј–љ–∞–є—Б—В–≤–∞ –Є —Б–≤–Њ–µ–є
–љ–µ–і–∞–ї—М–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—А–Њ–і–љ–Є—В—М—Б—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М, –љ–∞ —Н—В–Њ –і—Г—Е—Г —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ, –∞ –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М —
—Б–ї–∞–±—Л. –Ш –Ї–∞–Ї –±—Л—Б—В—А–Њ —Б–і–∞–ї–Є—Б—М. –Ь—Л –і—Г–Љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤—Л —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ. –°–Ї–∞–ґ—Г –њ–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В—Г,
—Б—Г–ї—В–∞–љ –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–є –±—Л—Б—В—А–Њ–є –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л. –Т—Б–µ —Г –≤–∞—Б –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М
–њ–Њ–Ї–∞–Ј–љ—Л–Љ, –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–Њ—Й—М —В–Њ–ґ–µ. –ѓ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—О, —Б—Г–і—М–±–∞ –≤–∞—И–µ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є
–љ–∞—И–µ–≥–Њ –•–Њ—А–µ–Ј–Љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є. –Ъ–∞–Ї –Є –•–Њ—А–µ–Ј–Љ, –≤–∞—И–∞ –У—А—Г–Ј–Є—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–љ–Њ–Љ –љ–∞
–≥–ї–Є–љ—П–љ—Л—Е –љ–Њ–≥–∞—Е. –Ю–і–Є–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є —Г–і–∞—А, –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–љ —А—Г—Е–љ—Г–ї, —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–≤—И–Є—Б—М –љ–∞
–Ї—Г—Б–Ї–Є.
— –У—А—Г–Ј–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–≥–∞—В–∞—П –Є —Б–Є–ї—М–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞. –Э–Њ —Б—В—А–∞–љ–∞ —Б–Є–ї—М–љ–∞ –љ–µ
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є –Є —Г–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –љ–∞—А–Њ–і –Љ–Њ–≥—Г—З —В–Њ–≥–і–∞,
–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –Є —Г–Љ–љ—Л–є –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М. –£ –≥—А—Г–Ј–Є–љ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ –±—Л —Б–Є–ї
–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—В—М —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–∞–Љ –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В—М –Є—Е, –µ—Б–ї–Є –±—Л —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї —В–µ–њ–µ—А—М
–Љ—Г–і—А—Л–є –Є –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є–є —В–≤–µ—А–і–Њ–є –≤–Њ–ї–µ–є —Ж–∞—А—М. –Т—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –Љ—Л
–Њ–і–Њ–ї–µ–ї–Є –≤ –±–Њ—О –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –љ–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –І–Є–љ–≥–Є—Б—Е–∞–љ–∞, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ —Н—В–Њ
–±—Л–ї–Є –Њ—В—А—П–і—Л, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –Є–Ј –Њ—В–±–Њ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤. –Т –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–є —Б–µ—З–µ –Љ—Л —А–∞–Ј–±–Є–ї–Є –Є—Е
–Є –Њ—В–Њ–≥–љ–∞–ї–Є –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж. –Э–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї –Њ—В–≤–∞–ґ–љ—Л–є —Ж–∞—А—М. –У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–є
–љ–∞—А–Њ–і –≤–µ—А–Є–ї –≤ –µ–≥–Њ –Њ—В–≤–∞–≥—Г, –≤ –µ–≥–Њ —Г–Љ –Є –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є —Б–Є–ї—Л –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ–≥–Њ.
–Т–Њ–ї—П –Є —Б–Є–ї–∞ —Ж–∞—А—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–ї–µ–є –Є —Б–Є–ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–∞, –∞ —Б–Є–ї–∞ –љ–∞—А–Њ–і–∞
–Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–Є–ї–Њ–є —Ж–∞—А—П. –Т—Б–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞ —Ж–∞—А—П, –∞ —Ж–∞—А—М –±—Л–ї –Ј–∞ –≤—Б–µ—Е. –У—А—Г–Ј–Є–љ—Л
–±—Л–ї–Є –µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М –Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–Є
—Г—Б–Є–ї–Є—П.
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–ї–∞–±–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –≤—Б–µ –Є–і–µ—В
–њ–Њ-–і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г. –Ю–љ–∞ –љ–µ —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –Є–ї–Є –љ–µ —Г–Љ–µ–µ—В –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Є
–њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –Њ–±–Њ–і—А–Є—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л—Е, –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П –Њ–і–µ—А–љ—Г—В—М –Ј–∞—А–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Ї–љ—П–Ј–µ–є. –Х–µ
—Б–ї–∞–±–Њ—Б—В—М –Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В—М—О —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л —Б–њ–∞—Б—В–Є
–≤—Б—О –У—А—Г–Ј–Є—О, –∞ —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Є —Б–≤–Њ–Є –Є–Љ–µ–љ–Є—П, –љ–∞—И–Є –Ї–љ—П–Ј—М—П –Ј–∞–±–Њ—В—П—В—Б—П –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Њ
—Б–≤–Њ–µ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М–µ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Р —Н—В–Њ –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–µ—В –Ј–∞–і–∞—З—Г –≤—А–∞–≥–∞. –Я–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ, –µ—Б–ї–Є
–±–Њ–≥ —А–µ—И–Є–ї –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞—А–Њ–і, –Њ–љ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–µ—В –µ–Љ—Г
—Б–ї–∞–±–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–љ—Ж–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞.
— –Ф–∞, –љ–Њ —Н—В–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В—М –љ–µ–Њ—Й—Г—В–Є–Љ–∞ –і–Њ –њ–Њ—А—Л –і–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.
–Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–µ—В. –•–Њ—А–Њ—И–∞—П, –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї—П–µ—В
–љ–∞—А–Њ–і –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є, –ї–Є—И–∞–µ—В –µ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ–≤–Ј–≥–Њ–і–∞–Љ. –Т–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В—М
–љ–∞—А–Њ–і–∞ –Є —Б—В—А–∞–љ—Л –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Є —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є —Б —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ
–≤—А–∞–≥–Њ–Љ.
–Ф–∞ —Б–ї–∞–±—Л–Љ, –љ–µ –Љ—Г–і—А—Л–Љ —Ж–∞—А–µ–Љ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–≤–∞–µ—В –±–µ—Б–њ–µ—З–љ–Њ—Б—В—М. –Э–∞—З–Є–љ–∞—О—В—Б—П –њ–Є—А—Л,
–Ј–∞–±–∞–≤—Л, —Г–њ–Є–≤–∞–љ–Є–µ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М—О. –Т–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ–Є –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—О—В —Ж–∞—А—О –Є —В–Њ–ґ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—О—В –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ
–і–Њ–ї–≥–µ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ, –њ–µ—А–µ–і —Б—В—А–∞–љ–Њ–є. –Я—А–Є–Љ–µ—А—Г —Ж–∞—А—П –Є –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ —Б–ї–µ–і—Г—О—В –≤—Б–µ
–і—А—Г–≥–Є–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ –Є –Љ–∞–ї—Л–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П, –і–≤–Њ—А—П–љ–µ. –†–µ–Ї–∞, –Ј–∞–Љ—Г—В–Є–≤—И–Є—Б—М —Г –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ
–Є—Б—В–Њ–Ї–∞, –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –Љ—Г—В–љ–Њ–є –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є –і–Њ —Б–∞–Љ—Л—Е –љ–Є–Ј–Є–љ. –Ґ–∞–Ї —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —Г
–љ–∞—Б –≤ –•–Њ—А–µ–Ј–Љ–µ, —В–∞–Ї, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –±—Л–ї–Њ —Г –≤–∞—Б, –≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є, –њ–µ—А–µ–і —В–µ–Љ –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–є—В–Є
–љ–∞–Љ.
— –Т—Л –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є—В–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —З–Є—Б—В—Г—О –њ—А–∞–≤–і—Г, –Љ–Њ–є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –Ь–Њ—Е–∞–Љ–Љ–µ–і. –Т–Є–і—П
–±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М —Ж–∞—А—П, –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л–µ —В–Њ–ґ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞—О—В –њ–µ—З—М—Б—П –Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ.
–Я–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤, —З—В–Њ —Г–Ј–і–∞ –≤–ї–∞—Б—В–Є, —Г–Ј–і–∞ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б–ї–∞–±–ї–∞, —Ж–∞—А–µ–і–≤–Њ—А—Ж—Л –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В
—В—П–љ—Г—В—М –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤ —Б–≤–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –µ–і–Є–љ–Њ–≤–ї–∞—Б—В–Є–µ –љ–∞—А—Г—И–∞–µ—В—Б—П. –Ґ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –Є —Г –љ–∞—Б.
–°—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Ж–∞—А–Є—Ж–∞ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ
–і–µ–ї–µ –Є–Љ –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї –љ–Є–Ї—В–Њ.
— –Я–Њ–Ї–∞ –±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ –Њ–і–Є–љ —Ж–∞—А—М, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В—М –і–µ–ї–Њ. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М
—А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –љ–∞ –≤—Б–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ, —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ –≥–Є–±–љ–µ—В. –Э–∞—И —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ—И–∞—Е –Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–µ–і,
–Њ—В–µ—Ж –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞, —Г–Љ–µ—А –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤.
–Э–Њ —Н—В–Њ –љ–Є—З–µ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Њ. –І–µ—А–≤—М –±–µ—Б–њ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Г–ґ–µ –њ–Њ–і—В–Њ—З–Є–ї
–њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Є–µ —В—А–Њ–љ–∞ –Є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –њ–Њ–і—В–Њ—З–Є–ї —Б–∞–Љ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞.
–Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ, –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤—И–µ–µ –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П –Њ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є –Њ–±
–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–Є, –љ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–µ—В –≤–Є–љ—Л –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≥—А—П–і—Г—Й–Є–Љ–Є, –љ–µ
—З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Є —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л? –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є
–Њ–љ–Є –љ–µ –њ—А–µ–і–≤–Є–і—П—В –≤—Б–µ–є –≥–Њ—А–µ—З–Є –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є –±–µ—Б–њ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є
–±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–ґ–Є–љ–∞—О—Й–Є–µ –њ–ї–Њ–і—Л
–њ—А–Њ–Ї–ї—П–љ—Г—В –Є—Е –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В—П—В?
— –Э–µ—Б—З–∞—Б—В—М–µ –Љ–Њ–µ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —П –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г—Б—М –≤ –њ–ї–µ–љ—Г, –∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ
–њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ—Г –Ї –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О –ї—О–і–µ–є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л –Є–Ј–≤–Њ–ї–Є—В–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М. –°—В–Њ–Ї—А–∞—В —П
–љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–µ–µ, —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—П –≤–µ—Б—М –і–Њ–ї–≥ –њ–µ—А–µ–і –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ. –°–∞–Љ —П –і–µ–ї–∞–ї –≤—Б–µ, —З—В–Њ–±—Л –Љ–µ–љ—П
–Є –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б –љ–µ –њ—А–Њ–Ї–ї–Є–љ–∞–ї–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є. –Э–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ–µ–љ—П —В–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –Є–љ–Њ–µ. –Р —З—В–Њ —П
–Љ–Њ–≥ —Б–і–µ–ї–∞—В—М? –Ъ–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —В—П–љ–µ—В –≤–Њ–Ј –љ–∞–Ј–∞–і, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞–Љ —В—П–љ—Г—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ –≤–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –њ—Г—В–Є –≤–њ–µ—А–µ–і –Є –≤ –≥–Њ—А—Г.
— –Ґ–∞–Ї, –Ґ–Њ—А–µ–ї–Є. –ѓ –Є —Б–∞–Љ –Є–Ј —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –Є —Г
–Љ–µ–љ—П –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В—Б—П —А—Г–Ї–Є –Њ—В –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –Є–ї–Є —Е–Њ—В—П –±—Л —Б–і–µ—А–ґ–∞—В—М
–љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–Њ —Б—Г–і—М–±—Л.
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –Ј–∞—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –њ–Њ–і –•–ї–∞—В–Њ–Љ. –Т —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —Е–ї–∞—В—Ж–µ–≤ –±—Л–ї –љ–µ–і–∞–≤–љ–Є–є
–њ—А–Є–Љ–µ—А –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –Ю–љ–Є —В–Њ—З–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Є—Е –ґ–і–µ—В, –µ—Б–ї–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –±—Г–і–µ—В —Б–і–∞–љ–∞.
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ, –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є, —А–µ—И–Є–≤
–Є–ї–Є –њ–Њ–≥–Є–±–љ—Г—В—М, –Ї–∞–Ї –Њ–і–Є–љ, –Є–ї–Є –Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М –≥–Њ—А–Њ–і.
–°—Г–ї—В–∞–љ –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї, —З—В–Њ –Њ—Б–∞–і–∞ –Ј–∞—В—П–љ–µ—В—Б—П. –Ю–љ –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ –±—А–Њ—Б–∞–ї—Б—П –љ–∞
—Б—В–µ–љ—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –љ–Њ –≤—Б—П–Ї–Є–є —А–∞–Ј –Њ—В–Ї–∞—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞–Ј–∞–і.
–Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ –і–µ—А–ґ–∞–ї –Ј–і–µ—Б—М —Б–≤–Њ–Є –Њ—В–±–Њ—А–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –∞ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ
–њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –±—Л–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї–µ–љ. –Ш –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М
–≤—Б—П–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Ј–љ–Є. –Ъ –≥—А—Г–Ј–Є–љ–∞–Љ, —Б–Є–і—П—Й–Є–Љ –Ј–∞ –Ы–Є—Е—Б–Ї–Є–Љ —Е—А–µ–±—В–Њ–Љ, –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–Є
–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –ґ–Є–≤—И–Є—Е –≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ, —В–µ—Е —Б–∞–Љ—Л—Е, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–∞–ї–Є –У—А—Г–Ј–Є—О –≤
—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г. –Ґ–µ–њ–µ—А—М, –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М—О —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –Є
–њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–µ–≤, –Њ–љ–Є –њ—А–Є—И–ї–Є,
—З—В–Њ–±—Л —А–∞—Б–Ї–∞—П—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ. –Ю–љ–Є —Г–≤–µ—А—П–ї–Є, —З—В–Њ –ґ–і—Г—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П
–і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≥—А—Г–Ј–Є–љ–∞–Љ —Б–≤–Њ—О –њ—А–µ–ґ–љ—О—О –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М.
–†–∞—Б–Ї–∞—П–≤—И–Є–µ—Б—П —Г–≤–µ—А–Є–ї–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є
–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ, —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж—Л –±–µ—Б–њ–µ—З–љ—Л, —Б—Г–ї—В–∞–љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ –Ї –•–ї–∞—В—Г, —В–∞–Ї —З—В–Њ
–µ—Б–ї–Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –љ–∞–њ–∞—Б—В—М, —В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–µ–Ј —В—А—Г–і–∞ –≤–µ—А–љ—Г—В—М –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –њ–µ—А–µ–±–Є–≤ –≤–µ—Б—М
–µ–≥–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ.
–Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —Н—В–Њ —В–±–Є–ї–Є—Б—Ж—Л-–Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ–µ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –њ–Њ–±–µ–≥ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–∞
—Ж–∞—А–Є—Ж—Л –†—Г—Б—Г–і–∞–љ –Ь–Њ–≥–∞—Б-—Н–і-–Ф–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—Г–ї—В–∞–љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї –≤ —В—О—А—М–Љ—Г. –Ю—В–µ—Ж
–≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ–ґ–µ –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –Ы–Є—Е—Б–Ї–Є–є —Е—А–µ–±–µ—В –Є —В–Њ–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї
—Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М –≥—А—Г–Ј–Є–љ –Њ—В–≤–Њ–µ–≤–∞—В—М —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г. –Ю–љ –њ–Њ–Ї–ї—П–ї—Б—П –љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ–µ –≤ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є
–љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–є –Є —Б–≤–Њ–Є—Е, –Є —В–µ—Е –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–≥–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї–Є.
–У—А—Г–Ј–Є–љ—Л –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –У–Њ—З–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ. –Э–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Њ–љ–Є
–њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Ї –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ. –Т–Є–Ј–Є—А—М
–®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї, –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞ –≤ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ, –±—Л–ї –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤
–У–∞–љ–і–Ј–µ. –•–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж—Л –±–µ–Ј —В–≤–µ—А–і–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ,
–Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –±—Л–ї –≤–Ј—П—В.
–Ь—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ —Б–∞–Љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є —Е–≤–∞—В–∞—В—М —В–µ—Е –Ј–∞—З–Є–љ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –Љ—П—В–µ–ґ
–Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ—В–і–∞–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ—Г. –Э–∞–њ—Г–≥–∞–љ–љ—Л–µ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ
—Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –њ—А–Њ–≤–Є–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –і—А—Г–≥ –љ–∞ –і—А—Г–≥–∞, –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –≤—Б–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ
–њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–і –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ.
–У–Њ—З–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–Њ–Њ—А—Г–і–Є—В—М –≤–Є—Б–µ–ї–Є—Ж—Л –љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є
–њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Є –њ–µ—А–µ–≤–µ—И–∞–ї –≤—Б–µ—Е, –≤–Є–љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є. –Ф–Њ–Љ–∞
–Ї–∞–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—А–Њ–≤–љ—П–ї–Є —Б –Ј–µ–Љ–ї–µ–є.
–Т–µ—Б—В—М –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –У–∞–љ–і–Ј—Л. –®–µ—А–µ—Д-—Н–ї—М-–Ь–Њ–ї–Ї
–Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –±—Л –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Л –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є –Њ—В–Њ–Љ—Б—В–Є—В—М –µ–Љ—Г –Ј–∞ –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Њ–љ
–љ–∞—В–≤–Њ—А–Є–ї –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –Є –љ–µ –љ–∞–њ–∞–ї–Є –љ–∞ –У–∞–љ–і–Ј—Г. –Э–µ –Љ–µ–і–ї—П –љ–Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї
–≥–Њ–љ—Ж–∞ –Ї —Б—Г–ї—В–∞–љ—Г.
–Р –≤ –•–ї–∞—В –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –њ—А–Є—И–ї–∞ –Ј–Є–Љ–∞. –Я–Њ—Е–Њ–ї–Њ–і–∞–ї–Њ, –Є –і–∞–ґ–µ –≤—Л–њ–∞–ї —Б–љ–µ–≥.
–Ч–Є–Љ–Њ–≤–∞—В—М —Г —Б—В–µ–љ –•–ї–∞—В–∞ –±—Л–ї–Њ –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ. –Т–µ—Б—В–Є –Є–Ј –У—А—Г–Ј–Є–Є —И–ї–Є –Њ–і–љ–∞ —Е—Г–ґ–µ
–і—А—Г–≥–Њ–є. –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ —Б–љ—П–ї –Њ—Б–∞–і—Г –Є –њ–Њ—И–µ–ї –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М –≥–Њ—А–Њ–і
–Є –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤ –љ–µ–Љ –Ј–Є–Љ–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л.
–У—А—Г–Ј–Є–љ—Л –љ–µ —А–µ—И–Є–ї–Є—Б—М –≤—Л–є—В–Є –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –Ф–ґ–µ–ї–∞–ї-—Н–і-–Ф–Є–љ—Г –Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П —Б
–љ–Є–Љ –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –±–Њ—О. –Э–µ —А–µ—И–Є–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –Є –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –Ї–∞–Ї –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М.
–Я—А–Њ—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Г–є—В–Є –≤–Њ—Б–≤–Њ—П—Б–Є — –Њ–њ—П—В—М –Ј–∞ –Ы–Є—Е—Б–Ї–Є–є —Е—А–µ–±–µ—В. –Э–Њ –љ–µ
—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ–±—Л —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж—Л –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –љ–∞ –Ј–Є–Љ—Г –Є —А—Л—Б–Ї–∞–ї–Є –±—Л –њ–Њ
–≤—Б–µ–є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –Є—Й–∞ –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –Є –њ–Њ–ґ–Є–≤—Г. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Л —А–µ—И–Є–ї–Є
–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –љ–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Њ–љ–Є –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ, –±–Њ–ї–µ–µ —В—П–≥–Њ—Б—В–љ–Њ–µ
—А–µ—И–µ–љ–Є–µ — —Б–ґ–µ—З—М –≥–Њ—А–Њ–і –і–Њ—В–ї–∞, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –µ–≥–Њ —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ
—Б—В–Њ—П—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –≤ —З–Є—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ.
–≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –ґ–µ—Б—В–Њ–Љ –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—П. –Ч–∞—Й–Є—В–Є—В—М –У—А—Г–Ј–Є—О –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М
—Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—И–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Т—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Г—Е–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј
—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –Х—Б–ї–Є —В–∞–Ї, —В–Њ –њ—Г—Б—В—М –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞ –Є –≤—А–∞–≥—Г. –†–µ—И–µ–љ–Є–µ
–љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–і–љ–Є–Љ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –У—А—Г–Ј–Є–љ—Л –љ–∞–і—Г–Љ–∞–ї–Є –Њ—В–љ—Л–љ–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є
—Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—В—М —В–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤—А–∞–≥ –Є
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ–љ —Г–ґ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А. –Ц–µ—З—М –і–Њ–Љ–∞, –Њ–і–µ–ґ–і—Г, –њ—А–Њ–≤–Є–∞–љ—В, —З—В–Њ–±—Л
–≤—А–∞–≥ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ, —З—В–Њ–±—Л –µ–Љ—Г —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Г–є—В–Є –Є–Ј –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О
—А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–є, –≤—Б–µ–Љ–Є –±—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–є, –љ–Є–Ї—З–µ–Љ–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –≤—А–∞–≥ –љ–µ –њ—Г—Б—В–Є–ї –Ј–і–µ—Б—М
–Ї–Њ—А–љ–µ–є –Є –љ–µ —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ.
–Ґ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А–Є—Ж—Л –Є –і–∞—А–±–∞–Ј–Є. –Э–∞—З–Є–љ–∞—В—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ
–≥–Њ—А–Њ–і–∞ — —Б –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –Ш –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї–Є —Н—В–Њ –і–µ–ї–Њ –ї—Г—З—И–µ–Љ—Г –Ј–Њ–і—З–µ–Љ—Г, –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г
—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—О –У–Њ—З–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ.
–Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–≤, –Ј–∞–ґ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Ж–∞–Љ–Є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є
—Г—Ж–µ–ї–µ–ї–Њ. –Х—Б–ї–Є –±—Л –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –≥–Њ—А–Њ–і, —В–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ
–±—Л –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ —В—А—Г–і–љ–Њ. –У–ї–∞–≤–љ—Л–µ, —Б–∞–Љ—Л–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ
–њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ—Л. –Э–Є –Њ–≥–Њ–љ—М, –љ–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –љ–µ –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –†—Г—Б—Г–і–∞–љ.
–Я–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Њ–љ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї—Б—П –љ–∞–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ, –љ–∞ –Ь–µ—В–µ—Е—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–ї–µ, –љ–∞–і —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ
–±—Г—А–љ–Њ–є –Ъ—Г—А—Л, –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –ї—О–±–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Є–Љ —Б –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є.
–Т—Б–µ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –њ–∞–ї–∞—В—Л –†—Г—Б—Г–і–∞–љ, –±—Л–ї–Є
–љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л. –Э–Њ —Б–∞–Љ–∞—П —В—П–ґ–µ–ї–∞—П –і–Њ–ї—П –≤—Л–њ–∞–ї–∞ –љ–∞ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П —Н—В–Є—Е –≥—А—Г–Ј–Є–љ,
–њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М —В–Њ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ –ґ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї, —З—В–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є
—А—Г–Ї–∞–Љ–Є, —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥, –Ї–∞–Ї –і—Г–Љ–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–∞ –≤–µ–Ї–∞.
–Ш –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ –і–≤–Њ—А–µ—Ж. –Я–µ—А–≤—Л–є –Ј–Њ–і—З–Є–є –У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –У–Њ—З–Є
–Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї—Г—З—И–Є—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л. –Ю–љ
–±—Л–ї –≤–ї—О–±–ї–µ–љ –≤ —Б–≤–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і –Ї–∞–Ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Є –Ї–∞–Ї –≥—А—Г–Ј–Є–љ. –Э–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –±—Л–ї –ї–Є—И—М
–≤–Њ–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ю–љ –ї–µ–≥—З–µ –±—Л —Б–∞–Љ —Г–Љ–µ—А,
—Б—А–∞–ґ–∞—П—Б—М –Ј–∞ —Н—В–Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і, –љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Г—Е–Њ–і–Є—В—М, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–њ–µ–њ–µ–ї.
–Х–Љ—Г –љ–µ –≤–µ–Ј–ї–Њ –≤ –ї—О–±–≤–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ, –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї—Б—П –Њ —В–Њ–Љ,
—З—В–Њ–±—Л –Њ–±–Ј–∞–≤–µ—Б—В–Є—Б—М —Б–µ–Љ—М–µ–є. –Т—Б—П –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М, –≤—Б–µ –µ–≥–Њ —Б–Є–ї—Л –±—Л–ї–Є –Њ—В–і–∞–љ—Л
–Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л. –Ю–љ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї —Б–ї–∞–≤—Г
–У—А—Г–Ј–Є–Є –Є –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–∞ —Б–ї–∞–≤–∞ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–µ—В –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Є –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ
–Є —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ-–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –±—Г–і—Г—В –≥–Њ—А–і–Є—В—М—Б—П —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ј–Њ–і—З–µ–≥–Њ, –ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ
–њ—А–Є —Ж–∞—А–Є—Ж–µ –†—Г—Б—Г–і–∞–љ.
–Ю–љ –±—Л–ї —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤. –°—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є. –Ю–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П, –Є
–≤–Њ—В –≤—Б–µ —Н—В–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Њ –њ–ї–Њ–і—Л. –Ґ–∞–ї–∞–љ—В, —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Є —В—А—Г–і –њ–µ—А–µ–≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤
–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –Ј–і–∞–љ–Є—П, –Є–Ј—П—Й–љ—Л–µ, –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–µ, —А–∞–і—Г—О—Й–Є–µ –≥–ї–∞–Ј –Є –і—Г—И—Г. –Т—Б–µ –µ–≥–Њ
–Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Л –Є –Љ–µ—З—В—Л –њ–µ—А–µ–≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, —З—В–Њ–±—Л —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ
–≤–µ–Ї–∞.
–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М –Є –њ—А–Њ –≤–µ–Ї–∞, –Є–±–Њ —Б–ї–∞–≤–∞ –Њ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є
—А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –∞ —Б–ї–∞–≤–∞ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л —Б–∞–Љ–∞—П –њ—А–Њ—З–љ–∞—П —Б–ї–∞–≤–∞ –≤
–Љ–Є—А–µ. –Ш –≤–Њ—В —В–µ–њ–µ—А—М –≤—Б–µ —Н—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Б–≥–Њ—А–µ—В—М –≤ –Њ–≥–љ–µ, –Є –Ј–Њ–і—З–Є–є —Б–∞–Љ –њ–Њ–і–љ–µ—Б–µ—В
–Њ–≥–Њ–љ—М.
–Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ґ–µ—З—М –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –У–Њ—З–Є –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ —Г—И–∞–Љ. –Э–Њ
–њ—А–Є–Ї–∞–Ј –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї –Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—О, –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В—М –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е,
–≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М –Є—Е —Б –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М
–µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П.
–Т–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –ї–Є—И–Є–ї–Є—Б—М –і–∞—А–∞ —А–µ—З–Є. –Э–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ
—В–µ, –≤ –Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ –Є –њ–Њ–≥–Њ—А—П—З–µ–µ –Ї—А–Њ–≤—М, —А–µ–Ј–Ї–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ—В–Є–≤–Є–ї–Є—Б—М: «–Ъ–∞–Ї, –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М
–Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –±–µ–Ј –±–Њ—П –Є —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б–ґ–µ—З—М? –≠—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –і–ї—П –љ–∞—Б —А–∞–≤–љ–Њ—Б–Є–ї—М–љ–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Ґ–∞–Ї
—А–∞–Ј–≤–µ –љ–µ –ї—Г—З—И–µ —Г–Љ–µ—А–µ—В—М –њ–Њ–і —Б—В–µ–љ–∞–Љ–Є –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –≤—Б—В—А–µ—В–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –≤
–Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –±–Њ—О. –Ф–∞ –њ—Г—Б—В—М –≤—Б–µ –Љ—Л –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ–Љ, –љ–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ–Љ —Б
—З–µ—Б—В—М—О!»
–Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ –љ–∞—Е–Љ—Г—А–Є–ї—Б—П –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.
–Т—Б—П–Ї–Є–є, –Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—Б—П –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г, –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї —Б–Љ–µ—А—В–Є, –Є –Њ–љ, –У–Њ—З–Є
–Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ, –ї–Є—З–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А.
–Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–µ–ї –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б—В–Њ–ї—Г –Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Њ—В–≤–µ–ї —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї
–≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ч–∞—В–µ–Љ –≤—Б–µ —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –≤—Б–µ, —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ
–њ–Њ–ґ–∞—А–∞.
–Т–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є –≤—Л—И–ї–Є –Њ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–ґ–Є–≤—Л–µ –Њ—В –Њ–±–Є–і—Л –Є –≥–Њ—А—П. –°–∞–Љ
–У–Њ—З–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Б—В–Њ–є–Ї–Њ. –Т–Ј—П–≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є
–Њ—В—А—П–і, –Њ–љ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г, —З—В–Њ–±—Л –Њ–±—К–µ—Е–∞—В—М –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї—Л –Є —Г—Б–Ї–Њ—А–Є—В—М
–≤—Л–≤–Њ–і –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Э–µ —Б—Е–Њ–і—П —Б –Ї–Њ–љ—П, –Њ–љ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П, –ї—О–і–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є
—И–µ–≤–µ–ї–Є—В—М—Б—П –±—Л—Б—В—А–µ–µ, –Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї–Є –Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Б–µ–Љ—М–Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–ї–Є—Б—М, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —А—Г—З—М–Є
—Б–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ—В–Њ–Ї–Є, –Є –≤–Њ—В —А–µ–Ї–∞ –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –і–≤–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є–Ј –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, —Б —И—Г–Љ–Њ–Љ, —Б
–њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П–Љ–Є, —Б –њ–ї–∞—З–µ–Љ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Є –і–µ—В–µ–є.
–Ф–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ–Є–Ї–Є —В–∞—Й–Є–ї–Є –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–Ј–љ—Л–є –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–є —Б–Ї–∞—А–±, —З—Г–і–Њ–Љ
—Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–Є–є –Њ—В —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–Є—П, — –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Ї–Њ–≤—А–Њ–≤, –Љ–µ–і–љ—Г—О –њ–Њ—Б—Г–і—Г, –≤—Б—П–Ї—Г—О —Г—В–≤–∞—А—М.
–Я–µ—А–µ–і –≤—Е–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –Ъ—Г—А—Г —З–µ—А–љ—Л–є –њ–Њ—В–Њ–Ї –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є–ї
–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –° –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Љ–Њ—Б—В–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Є, –Є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –≤—Б–µ—Е –У–Њ—З–Є
–Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ. –Т–Њ–ї–љ–∞ –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞–њ–Є—А–∞–ї–∞ —Б–Ј–∞–і–Є, —А–∞–Ј–ї–Є–ї–∞—Б—М
–њ–Њ –±–µ—А–µ–≥—Г —З–µ—А–љ—Л–Љ –њ—П—В–љ–Њ–Љ, –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞—В—М –Є –Љ–Њ—Б—В. –Т—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Є —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ–±—Л
—Г–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–Є—В—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –Љ–Њ—Б—В—Г.
–С–µ–ґ–µ–љ—Ж—Л —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ, –Њ–љ–Є –Ј–љ–∞–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ–± —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–Є
–Њ—В–і–∞–ї –Њ–љ, –љ–Њ –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї–Є –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є –µ–Љ—Г –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —Б–≤—Л—И–µ –Є —З—В–Њ –Њ–љ
–ї–Є—И—М –≤–Њ–Є–љ, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є–є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А–Є—Ж—Л –Є –і–∞—А–±–∞–Ј–Є. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –≤ —З–µ—А–љ–Њ–Љ
–њ—А–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–∞ —А—Г–Ї–Є –≤ —З–Є—Б—В–Њ–µ —Б–Є–љ–µ–µ –љ–µ–±–Њ, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –У–Њ—З–Є –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є—П –Є
–Ї–∞—А—Г.
–У–Њ—А—П—З–∞—П –Њ–±–Є–і–∞, –±–Њ–ї—М, —Б–ї–µ–Ј—Л –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –≥–Њ—А–ї—Г –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ. –Ю–љ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Є–ї
–Ї–Њ–љ—П, —З—В–Њ–±—Л —Г–µ—Е–∞—В—М –Є –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞—В—М –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є–є, –љ–Њ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А–Є–Ї–Є –ї–µ—В–µ–ї–Є
–µ–Љ—Г –≤—Б–ї–µ–і –Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Г—Е–∞. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –њ—А–Њ–Ї–ї–Є–љ–∞–ї–∞ –≤—Б–µ—Е –±–µ–Ј —А–∞–Ј–±–Њ—А–∞
–≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В–µ –Ј–∞–±—Л–ї–Є –Њ –і–Њ–ї–≥–µ, –Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Ж–∞—А–Є—Ж–µ –Є
—А–Њ–і–Є–љ–µ –Є –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–Є, –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –±–µ–Ј –±–Њ—П –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В
–≥–Њ—А–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –µ—Б—В—М —Б–Є–ї—Л –≤–ї–∞–і–µ—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –Є —Б–Є–і–µ—В—М –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ.
–У–Њ—З–Є –њ—А–Є—И–њ–Њ—А–Є–ї –Ї–Њ–љ—П, –і—Г–Љ–∞—П, —З—В–Њ –Ї—А–Є–Ї–Є –Є —Б—В–µ–љ–∞–љ–Є—П –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Б–µ –µ—Й–µ
–і–Њ–ї–µ—В–∞—О—В –і–Њ –љ–µ–≥–Њ. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є –≤ —Г—И–∞—Е, –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –У–Њ—З–Є, –Є –Њ—В
—Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї—Г–і–∞ —Г—Б–Ї–∞–Ї–∞—В—М.
–Т —Г–Ј–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –њ–Њ–њ–∞–ї–∞—Б—М –љ–Њ–≤–∞—П —В–Њ–ї–њ–∞ —В–±–Є–ї–Є—Б—Ж–µ–≤.
–Я–µ—А–µ–і–љ–Є–µ, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—П –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Є, —В–Њ–ї–Ї–∞–ї–Є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —Б–µ–±—П –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ —Г–њ–Є—А–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П
–Є –њ–∞–ї–Ї–Њ–є —Б—В—Г—З–∞—Й–µ–≥–Њ –Њ –і–Њ—А–Њ–≥—Г. –°–ї–µ–њ–µ—Ж —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П–ї—Б—П, –≤—Л—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –Є–Ј —А—Г–Ї –Є
—Г–Љ–Њ–ї—П–ї:
— –†–∞–і–Є –±–Њ–≥–∞ –Њ—Б—В–∞–≤—М—В–µ –Љ–µ–љ—П, —П –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ —Е–Њ—З—Г. –ѓ —Е–Њ—З—Г –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П. –Ч–∞—З–µ–Љ
–Љ–µ–љ—П —Б–њ–∞—Б–∞—В—М? –°–ї–µ–њ–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —В—А–Њ–љ–µ—В. –°–Њ –Љ–љ–Њ–є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М
–±–Њ–ї—М—И–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Г–ґ–µ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ. –Ю—Б—В–∞–≤—М—В–µ, –њ—Г—Б—В–Є—В–µ –Љ–µ–љ—П!
–У–Њ–ї–Њ—Б —Б–ї–µ–њ—Ж–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ –У–Њ—З–Є, –Њ–љ –њ—А–Є–≥–ї—П–і–µ–ї—Б—П –Є —Б —Г–ґ–∞—Б–Њ–Љ —Г–Ј–љ–∞–ї
–≤ —Б–ї–µ–њ—Ж–µ, –Ј–∞—А–Њ—Б—И–µ–Љ –±–Њ—А–Њ–і–Њ–є, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞ –Т–∞—З–µ.
— –Т–∞—З–µ, –Т–∞—З–µ, —З—В–Њ —Б —В–Њ–±–Њ–є? — –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ, –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—П –Ї–Њ–љ—П.
— –Ъ—В–Њ —В—Л —В–∞–Ї–Њ–є? — —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Б–ї–µ–њ–µ—Ж –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–∞–Ї –У–Њ—З–Є —Г–ґ–µ –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–ї
—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞. –°–ї–µ–њ–µ—Ж –Њ—Й—Г–њ—Л–≤–∞–ї –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –Њ–±–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Г –Є
–≤—Б–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Г–Ј–љ–∞—В—М — –Ї—В–Њ.
— –Ф–∞ –У–Њ—З–Є —П, –У–Њ—З–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ.
— –У–Њ—З–Є... –С—А–∞—В. — –Ш –Њ–±–∞ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –Ј–∞—А—Л–і–∞–ї–Є. — –Т–Є–і–Є—И—М, –Ї–∞–Ї–Њ–є —П —Б—В–∞–ї, —
–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Т–∞—З–µ, — –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М –Љ–љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞, –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є
–Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л, –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М –Љ–Є–ї—Л—Е —Б–µ—А–і—Ж—Г –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–ї–Є–љ –Є –≥–Њ—А, –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М
–Ї—А–∞—Б–∞–≤—Ж–∞ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–∞—А—В–Є–љ.
–У–Њ—З–Є –≤—Л—В–µ—А —Б–ї–µ–Ј—Л. –Ю–љ –њ–Њ–≥–ї—П–і–µ–ї –љ–∞ –њ—Г—Б—В—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–љ–Є—Ж—Л –Т–∞—З–µ, –љ–∞ –≤–µ—А–µ–љ–Є—Ж—Л
–±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤, –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і, –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є—О, –Є –њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї:
— –Ь–Њ–ґ–µ—В, –Є –ї—Г—З—И–µ, –Т–∞—З–µ, —З—В–Њ —В—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Є–і–Є—И—М. –Х—Б–ї–Є –±—Л —Г —В–µ–±—П –≤–љ–Њ–≤—М
–њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≥–ї–∞–Ј–∞, —В—Л –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї –±—Л –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–µ–±—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ—А—Г–≥–∞–љ–Є—П –Є
—Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≥—А—Г–Ј–Є–љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–ї–µ–Ј –Є –≥–Њ—А—П.
— –У–Њ—З–Є, — –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П –Т–∞—З–µ, — —П –і–∞–≤–љ–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П —В–µ–±–µ
—А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –µ—Й–µ –±—Л–ї–Є –≥–ї–∞–Ј–∞, –≤ —Б–∞–Љ—Л–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –і–µ–љ—М, —П –≤–Є–і–µ–ї,
–Ї–∞–Ї –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞ —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –Є–Ј –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–∞–ї–∞—В –†—Г—Б—Г–і–∞–љ –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –∞–љ–≥–µ–ї.
–У–Њ—З–Є —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ —Г—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞.
— –Ф–∞, –Є–Ј –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞, –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–∞, –≥–і–µ –Љ–Њ—П —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М, –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї
–∞–љ–≥–µ–ї, –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є, —Б —А–∞—Б–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є. –Ю–љ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ—Г—А—Г –Є
–Є—Б—З–µ–Ј. –Ъ–∞–Ї –ґ–∞–ї–Ї–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –Є —В—Л...
«–Э–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–є –Т–∞—З–µ, — –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ, — —Г–ґ –љ–µ –њ–Њ–Љ—Г—В–Є–ї—Б—П –ї–Є —Г –љ–µ–≥–Њ
—А–∞—Б—Б—Г–і–Њ–Ї? –І—В–Њ –ґ, –Є –љ–µ –Љ—Г–і—А–µ–љ–Њ. –£ –ї—О–і–µ–є —Б –Њ–±–Њ–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є —В–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Є–і–µ—В
–Ї—А—Г–≥–Њ–Љ».
— –Ф–∞, –і–∞, — —В–≤–µ—А–і–Є–ї —Б–ї–µ–њ–Њ–є, — –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є –∞–љ–≥–µ–ї, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї
–≤—Б–µ –∞–љ–≥–µ–ї—Л. –£ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–∞ –≥—А—Г–і—М –Є —А—Г–Ї–Є, –∞ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л —А–∞—Б–њ—Г—Й–µ–љ—Л –њ–Њ
–њ–ї–µ—З–∞–Љ. –Ю–љ –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞, —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї—А—Л–ї—М—П –Є –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ—Г—А—Г.
–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –љ–µ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–є, –∞ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є, –і—Г–Љ–∞–ї –њ—А–Њ —Б–µ–±—П –У–Њ—З–Є. –Э–µ –≤–Є–і–Є—В,
—З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥, –Є –љ–µ—В –µ–Љ—Г –љ–Є –і–Њ —З–µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞. –Ш –љ–µ —Г–≤–Є–і–Є—В, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞
–і–≤–Њ—А—Ж–∞ –њ–Њ–ї–µ—В—П—В —Г–ґ –љ–µ –∞–љ–≥–µ–ї—Л, –∞ –Ї–ї–Њ—З—М—П –Њ–≥–љ—П –Є –Ї–ї—Г–±—Л –і—Л–Љ–∞.
— –Э—Г –ї–∞–і–љ–Њ, –Т–∞—З–µ, –Є–і–Є, –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–њ–µ—И–Є—В—М. –ѓ —Б–Ї–Њ—А–Њ –і–Њ–≥–Њ–љ—О —В–µ–±—П. –Ь—Л –≤—Б–µ
–і–Њ–≥–Њ–љ–Є–Љ –≤–∞—Б, –Є–і–Є—В–µ –≤–њ–µ—А–µ–і.
— –Э–µ—В, –ґ–∞–ї–Ї–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –Є —В—Л. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ — –∞–љ–≥–µ–ї,
–≤—Л–ї–µ—В–µ–≤—И–Є–є –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞!
–У–Њ—З–Є –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –Љ–Є–Љ–Њ —Б–µ–±—П –≤—Б—О –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Г –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–µ–ї –љ–∞ –Ї–Њ–љ—П. –Ч–∞
–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ –µ–Љ—Г –њ–Њ–≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Є–љ—Л, —В–∞—Й–Є–≤—И–Є–µ –Њ—Е–∞–њ–Ї–Є —Б–µ–љ–∞. «–≠—В–Њ –і–ї—П
–њ–Њ–і–ґ–Є–≥–∞–љ–Є—П», — –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –У–Њ—З–Є, –Є —Б–µ—А–і—Ж–µ –µ–≥–Њ —Б–ґ–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ. –°–Ї–Њ—А–Њ
–Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –і–∞—В—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –Є –≤—Б–њ—Л—Е–љ–µ—В –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М, –Є –њ–Њ—В—П–љ–µ—В—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–є –і—Л–Љ, –Є
–≤—Б–µ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–µ—В –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є.
–Х–Љ—Г –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ —Б–ї—Л—И–∞–ї –і–∞–≤–љ–Њ, –≤ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–Љ –і–µ—В—Б—В–≤–µ.
–Ч–∞ —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–µ–Љ –њ–Њ –њ—П—В–∞–Љ –≥–љ–∞–ї–Є—Б—М –≤—А–∞–≥–Є. –Э–∞ –Ї–Њ–љ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–µ–Љ –±—Л–ї–∞ –Є –µ–≥–Њ
–≤–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–∞—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –±–µ—А–µ–≥ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ —Б–µ–±—П. –Ъ–Њ–љ—М –±—Л–ї —Б–Є–ї–µ–љ –Є —А–µ–Ј–≤.
–Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л —Г—Б–Ї–∞–Ї–∞—В—М –Њ—В –≤—А–∞–≥–Њ–≤, –љ–Њ –љ–∞ –њ—Г—В–Є
–њ–Њ–≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–∞—Б—М —А–µ–Ї–∞. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞—П, —З—В–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –љ–µ—В –Є —З—В–Њ –њ–Њ–≥–Њ–љ—П –≤–Њ—В-–≤–Њ—В
–љ–∞—Б—В–Є–≥–љ–µ—В, —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З –≤—Л—Е–≤–∞—В–Є–ї —Б–∞–±–ї—О –Є –Ј–∞—А—Г–±–Є–ї —Б–≤–Њ—О –≤–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Г—О —А–∞–і–Є —В–Њ–≥–Њ,
—З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ–Њ—А—Г–≥–∞–љ–Є–µ –≤—А–∞–≥—Г. –Ф–∞, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—О—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ
–Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л. –Ю–љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –ґ–Є—В—М –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ, –µ—Б–ї–Є –љ–∞ –Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Њ—Б–Ї–≤–µ—А–љ—П—В –Є
–Ј–∞—В–Њ–њ—З—Г—В –≤ –≥—А—П–Ј—М –Є—Е –ї—О–±–Њ–≤—М. –Ю–љ–Є —Г–±–Є–≤–∞—О—В –µ–µ —Б–∞–Љ–Є. –Э–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –ї–Є –Њ–љ–Є –ґ–Є—В—М
–њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –≤–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤ –ґ–µ –±—Л–ї –Ї–Њ–љ–µ—Ж —Н—В–Њ–є —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є? –У–Њ—З–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ
—Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ, –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М: –Ј–∞—А—Г–±–Є–≤ –љ–µ–≤–µ—Б—В—Г, —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З
–њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О —Б–Ї–∞–ї—Г –љ–∞–і —А–µ–Ї–Њ–є –Є –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤–љ–Є–Ј –љ–∞ –Њ—Б—В—А—Л–µ –Ї–∞–Љ–љ–Є.
–У–Њ—З–Є –≤–і—А—Г–≥ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П –Є —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П. –°–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ
–≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П –Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—П, –љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –У–Њ—З–Є –Ј–љ–∞–ї —В–µ–њ–µ—А—М, —З—В–Њ –µ–Љ—Г
–і–µ–ї–∞—В—М, –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –±—Г–і–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –Є –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –Ј–∞–њ—Л–ї–∞–µ—В —Б–Њ
–≤—Б–µ—Е –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤.
–У–Њ—А–Њ–і –њ—Г—Б—В–µ–ї, —З–µ—А–љ–∞—П –≤–µ—А–µ–љ–Є—Ж–∞ –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –≤—Л–њ–Њ–ї–Ј–ї–∞ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є
—Б—В–µ–љ—Л –Є —А–∞—Б—В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –њ–Њ —В—А–µ–Љ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ. –Т—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –Є
–≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—А—П–і –њ–Њ–і–ґ–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–є. –£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –±—Л–ї
–Ј–∞–ґ–ґ–µ–љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї–µ–ї. –У–Њ—З–Є –Љ–∞—Е–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Њ–є. –°–Њ—В–љ–Є –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ —Б —Д–∞–Ї–µ–ї–∞–Љ–Є –≤ —А—Г–Ї–∞—Е
–њ–Њ—Б–Ї–∞–Ї–∞–ї–Є –њ–Њ –њ—Г—Б—В—Л–Љ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є.
–Ю—В—А—П–і —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –У–Њ—З–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В—А—П–і—Г –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј
–Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є, —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ —Б–∞–Љ –Њ–љ —В–Њ—В—З–∞—Б –і–Њ–≥–Њ–љ–Є—В –Є—Е, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–µ—В –Њ–і–љ–Њ
–љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –і–µ–ї–Њ. –Ю—В—А—П–і –У–Њ—З–Є —Г—Б–Ї–∞–Ї–∞–ї –Є —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –≤ –і—Л–Љ—Г.
–У–Њ—З–Є —Б–њ–µ—И–Є–ї—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –†—Г—Б—Г–і–∞–љ –Є —Е–ї–µ—Б—В–љ—Г–ї –Ї–Њ–љ—П. –Ъ–Њ–љ—М –Ј–∞—А–ґ–∞–ї –Є
–љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —Е–Њ—З–µ—В —Е–Њ–Ј—П–Є–љ. –У–Њ—З–Є —Е–ї–µ—Б—В–љ—Г–ї –Ї–Њ–љ—П –µ—Й–µ —А–∞–Ј.
–Ъ–Њ–љ—М –Њ—В–±–µ–ґ–∞–ї, –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞, –љ–Њ —В–Њ–≥–Њ —Г–ґ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ.
–У–Њ—З–Є –Ь—Г—Е–∞—Б–і–Ј–µ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г–ґ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ –≥–Њ—А—П—Й–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞
–љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–Є–є —Н—В–∞–ґ. –Ъ–Њ–љ—М –њ–Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞ –Є, –њ–Њ–Ј–≤–∞–љ–Є–≤–∞—П –њ—Г—Б—В—Л–Љ–Є
—Б—В—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є, —Б –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–Љ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–Љ —А–ґ–∞–љ—М–µ–Љ –њ–Њ–Љ—З–∞–ї—Б—П –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е
—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ –ґ–∞—А—З–µ –Є –ґ–∞—А—З–µ.
–У–Њ—З–Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Њ–Ї–љ–Њ. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–∞–і–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–∞ –≥–Њ—А—Г. –Т –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–∞—Е
–≤—Б–µ —П—А—З–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–µ –Ї–ї—Г–±—Л –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–≤. –°–Є–љ–µ–≤–∞ —Б—Г–Љ–µ—А–µ–Ї –Є —З–µ—А–љ–Њ—В–∞ –і—Л–Љ–∞
–њ–Њ–і—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ. –≠—В–Є –Њ—В–±–ї–µ—Б–Ї–Є —В—А–µ–њ–µ—В–∞–ї–Є, –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–ї–Є—Б—М,
–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М... –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–∞–і –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –Љ–µ—З—Г—В—Б—П —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ—Л–µ —В–µ–љ–Є, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ
—З–µ—А–љ–Њ-–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –њ—В–Є—Ж—Л.
–Ш–Ј –і–∞–ї–µ–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ
–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л. –Ш–Љ —В–Њ–ґ–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—Е–Њ–і–Є—В—М, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П
–њ–Њ–Ј–∞–і–Є —Б–µ–±—П –Љ–Њ—А–µ –Њ–≥–љ—П –Є –і—Л–Љ–∞. –У–Њ—З–Є –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –ї—Г—З—И–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л
–њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М—Б—П –Є—Е, —З–µ—Б—В–љ—Л—Е –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞, –љ–µ
—Б–ґ–Є–≥–∞—В—М –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –љ–Њ —Б—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П –≤ —З–Є—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ, –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–љ–∞—Е, –≤
–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е, –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–Њ–Љ –Є –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М.
–Я–ї–∞–Љ—П —А–∞–Ј–≥–Њ—А–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤—Л–±–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞—А—Г–ґ—Г, –і—Л–Љ –њ–Њ—А–µ–і–µ–ї, –Є
—В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г –±—Л–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –Њ–≥–љ—П.
–Я–ї–∞–Љ—П –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –Є –њ–∞–ї–∞—В—Л —Ж–∞—А–Є—Ж—Л –†—Г—Б—Г–і–∞–љ. –Т –Ј–∞–ї–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М –ґ–∞—А–Ї–Њ, –Є–Ј
–≤—Б–µ—Е –і–≤–µ—А–µ–є –њ–Њ–≤–∞–ї–Є–ї –і—Л–Љ. –Ю—В –ґ–∞—А—Л –Є –µ–і—Г—З–µ–≥–Њ –і—Л–Љ–∞ –У–Њ—З–Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –Ј–∞–ґ–Љ—Г—А–Є–ї—Б—П. –Ю–љ
–њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї –Њ–Ї–љ—Г, –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б–Є–ї—Б—П –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —Б–≤–µ–ґ–µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г, –њ–Њ–≥–ї—П–і–µ–ї
–≤–љ–Є–Ј. –£ –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Є—П –Ь–µ—В–µ—Е—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–ї—Л –±—Г—А–ї–Є–ї–Є —З–µ—А–љ—Л–µ –≤–Њ–і—Л –Ъ—Г—А—Л. –Я–Њ —А–µ–Ї–µ –њ–ї—Л–ї–Є
–і—Л–Љ—П—Й–Є–µ—Б—П –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Є –і–Њ–Љ–Њ–≤ –Є –±—А–µ–≤–µ–љ. –Я–Њ–ґ–∞—А –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П —Б –Њ–Ї—А–∞–Є–љ –Ї —Ж–µ–љ—В—А—Г –≥–Њ—А–Њ–і–∞,
–љ–Њ –Є —Ж–µ–љ—В—А –њ—Л–ї–∞–ї. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–ї–µ—В–∞–ї –њ–Њ—А—Л–≤ –≤–µ—В—А–∞, –≤ –љ–µ–±–Њ —Б —З–µ—А–љ—Л–Љ –і—Л–Љ–Њ–Љ
–≤–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б—В–Њ–ї–њ—Л –Є—Б–Ї—А.
–Ф—А—Г–ґ–љ–Њ, –ґ–∞—А–Ї–Њ –≥–Њ—А–µ–ї –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є. –Т–Њ—В —Г–ґ —Б—В–Њ –ї–µ—В, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і –љ–µ –Ј–љ–∞–ї
–њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–≤. –Ю–љ —Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П, —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –Є –≤–і–∞–ї—М –Є –≤—И–Є—А—М, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є
–њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Є —А–∞—Б–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–ї–µ—З–Є. –° –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –≥–Њ–і–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї—Б—П, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ
–њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –±–ї–µ—Б—В—П—Й—Г—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞, –Є –≤ —Б–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–є
–Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О —А–Њ–ї—М —Б—Л–≥—А–∞–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ј–∞–і—Л—Е–∞—О—Й–Є–є—Б—П —В–µ–њ–µ—А—М –Њ—В –і—Л–Љ–∞ —Г
–Њ–Ї–љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–≥–Њ –Ј–і–∞–љ–Є—П. –Ь–Њ–ї—З–∞, –Ј–∞–Ї—Г—Б–Є–≤ –Ј–∞–њ–µ–Ї—И–Є–µ—Б—П –≥—Г–±—Л, –Њ–љ –≥–ї—П–і–µ–ї,
–Ї–∞–Ї –Њ–≥–Њ–љ—М –њ–Њ–ґ–Є—А–∞–µ—В —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б —В–∞–Ї–Є–Љ —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ
–Є —Б —В–∞–Ї–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О. –Ф–∞, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ–Њ–і–љ–µ—Б—И–Є–є –Њ–≥–Њ–љ—М –Ї –ї—О–±–Є–Љ–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г
—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О, —Г–ґ–µ –Њ–±—А–µ–Ї —Б–µ–±—П –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М. –Ю–љ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –ґ–Є—В—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ.
–У–Њ—З–Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤–і–∞–ї—М, –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ—Л–ї–∞—О—Й–Є—Е –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤ –Ф–∞–≤–Є–і–∞ –°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—П –Є
—Ж–∞—А–Є—Ж—Л –Ґ–∞–Љ–∞—А. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ —Б–≤–Њ–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж. –Ч–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В–∞—П
–Њ–±–ї–Є—Ж–Њ–≤–Ї–∞ —А—Г—Б—Г–і–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–ї–∞—В —Г–ґ–µ –њ–Њ—З–µ—А–љ–µ–ї–∞ –Њ—В –і—Л–Љ–∞. –Ш–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е
–Њ–Ї–Њ–љ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –≤—Л—А—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–ї–∞–Љ—П, –њ–∞–і–∞–ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л, –Њ–±—А—Г—И–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–µ—А—А–∞—Б—Л.
–Т–і—А—Г–≥ –≤—Б–µ –њ–Њ–Ї–∞—З–љ—Г–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–µ–Љ–ї–µ—В—А—П—Б–µ–љ–Є—П. –У–Њ—З–Є –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –љ–∞
—Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Г –Ј–∞–ї–∞. –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–∞—П –Ї—Г–њ–Њ–ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–і–∞–љ–Є—П,
–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ї—А–µ–љ–Є—В—М—Б—П –Є –њ–∞–і–∞—В—М. –У–Њ—З–Є —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П
–Њ–±–љ—П—В—М –ї—О–±–Є–Љ—Г—О –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г, –Є –њ—А–Є–љ—П–ї –њ–∞–і–∞—О—Й—Г—О –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Г –Ї —Б–µ–±–µ –љ–∞ –≥—А—Г–і—М.
–Ю–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї–± –њ–Њ–Ї–∞—З–∞–ї—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ–±—Е–≤–∞—В–Є–≤—И–Є–Љ –µ–≥–Њ
–±–Њ–≥–∞—В—Л—А–µ–Љ –Є —А—Г—Е–љ—Г–ї. –Т —В–Њ –ґ–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ–±—А—Г—И–Є–ї—Б—П –Є –њ–Њ—В–Њ–ї–Њ–Ї. –Т—Б–µ —Б–Љ–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М:
–Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –Є–Ј–≤–µ—Б—В—М, –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—В–∞, –њ—Л–ї—М...
–С–µ–ґ–µ–љ—Ж—Л –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї:
— –°–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, –≥–Њ—А—П—В –њ–∞–ї–∞—В—Л –†—Г—Б—Г–і–∞–љ. –У–Њ—А–Є—В –µ–µ –љ–Њ–≤—Л–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж!
— –Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л—В—М! — –Ј–∞–±–Њ—А–Љ–Њ—В–∞–ї –Т–∞—З–µ –Є –љ–µ–≤–Є–і—П—Й–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є
—Б—В–∞–ї –≤–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –Ї–∞–Ї –±—Л –Є—Й–∞, –Ї—Г–і–∞ –µ–Љ—Г —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М.
–Ю—В—Б–≤–µ—В—Л –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –ї–Є—Ж–∞—Е –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤.
— –°–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, — –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї–Є –≤—Б–µ –і—А—Г–ґ–љ–Њ, — –≥–Њ—А–Є—В –љ–Њ–≤—Л–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж!
— –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–ґ–≥–ї–Є –Є –µ–≥–Њ, — –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ—Б–Є–ї –Т–∞—З–µ, –Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞
–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є. — –Ъ–∞–Ї —А–µ—И–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і–ґ–µ—З—М —Н—В–Њ—В –і–≤–Њ—А–µ—Ж, –Њ–±–Є—В–µ–ї—М –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–≤.
–Ъ—А–Є–Ї —Б–ї–µ–њ—Ж–∞ –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ —А—Л–і–∞–љ—М–µ –Є —Б—В–Њ–љ, –Є –≤–і—А—Г–≥ –Т–∞—З–µ –Ј–∞—А–µ–≤–µ–ї, –Ї–∞–Ї –±—Л–Ї,
–Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Ј–∞–Ї–ї–∞–љ–Є–µ –Є —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –љ–Њ–ґ–∞.
(0 –У–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤)
 –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞
–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞